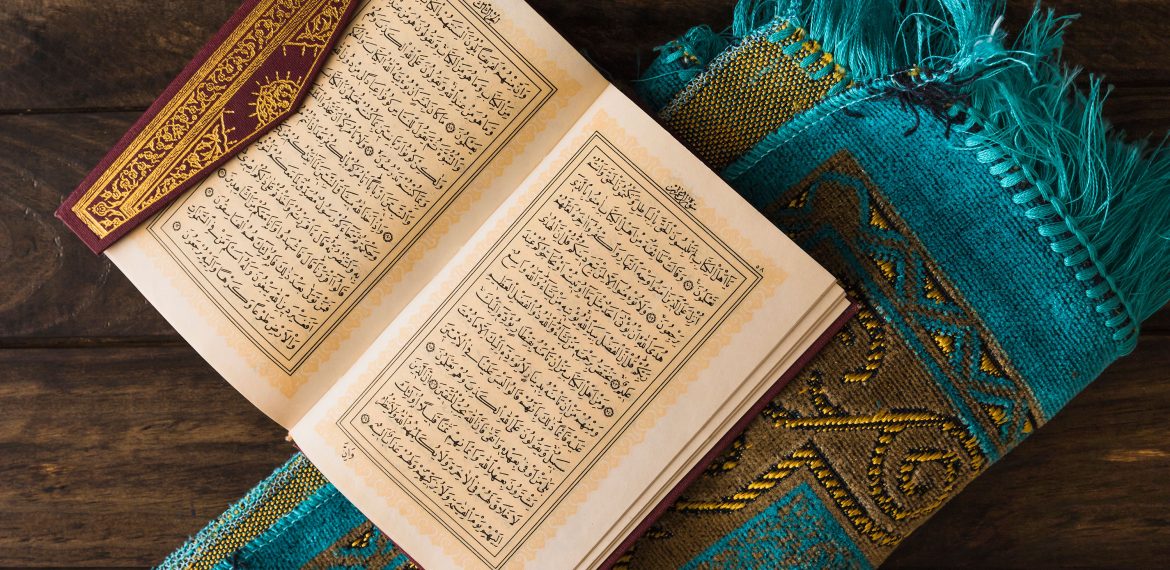По мнению Джамал ад-Дина ал-Афгани/ал-Асадабади (ум. 1314/1896–1897), считающегося основателем движения религиозного реформаторства в нынешнем столетии [1], Коран является священным источником, содержащим всю полноту истины и все необходимое для жизни человека. Если Коран понят верно, то становится ясно, что его смысл полностью сочетается с понятиями разума. Опираясь на этот постулат, Джамал ад-Дин ал-Афгани/ал-Асадабади был убежден, что кораническая экзегетика должна претерпеть изменения и согласовываться с научными достижениями человечества, с тем чтобы в современной жизни она оказалась способной не только обеспечить интеллектуальные запросы мусульманина, но и помочь ему улучшить свою жизнь в этом мире [2]. Идеи ал-Афгани/ал-Асадабади благодаря усилиям учеников последнего быстро распространились в арабских странах и были оформлены в виде законченной теории Мухаммадом ‘Абдо (ум. 1323/1905). Идеи ал-Афгани/ал-Асадабади – ‘Абдо подготовили почву для появления в мусульманском мире различных экзегетических школ, в свою очередь подразделявшихся на ответвления.
Индийский комментатор-реформатор Абу ал-Калам Азад (ум. 1379/1959) подразделяет реформаторские движение последнего столетия на три группы: 1) реформаторы-западники, наиболее типичным представителем которых является Ахмад-хан Хинди, 2) сторонники политических реформ и неприкосновенности религии; при этом их девиз – религиозное возрождение и упрочение положения мусульман, а необходимости реформирования религии они не видят; их наиболее ярким представителем является Джамал ад-Дин ал-Афгани/ал-Асадабади, 3) сторонники реформирования религии, убежденные в том, что вера была искажена, а гарантом счастливой жизни для мусульман служит только пересмотр религиозного учения. Главой этой группы следует признать Мухаммада ‘Абдо [3].
Стремление к реформам и удовлетворение нынешних запросов мирового сообщества не были единственным стимулом для экзегетической деятельности ученых – иногда встречаются и другие мотивы. Так, столкновение мусульман с современной западной наукой и ощущение изначального несоответствия последней и целого ряда положений Корана вынуждали некоторых комментаторов отчасти примирять данные науки с Кораном. Это породило жанр комментария, известный как научный тафсир.
Сравнивая реформаторский и научный подходы, необходимо сказать, что первый в основном имеет характер перечитывания Корана, обращения к нему в поисках нового смысла, а второй носит, скорее, апологетический оттенок: основная его цель – защитить Коран и дать возможность продолжать верить в него. В дальнейшем мы будем называть эти два подхода соответственно «новое прочтение Корана» и «апологетика Корана». К этим двум прогрессивным подходам необходимо добавить и традиционный, в рамках которого игнорируются произошедшие по необходимости изменения и используются прежние методы толкования.
В комментариях, написанных в начале нынешнего столетия, можно отчетливо увидеть разницу между этими тремя подходами, однако в более поздних тафсирах границы между ними размываются, и в этих трудах одновременно преследуется несколько целей.
Традиционный подход в экзегетике
То, что называют «традиционным подходом в экзегетике», не является ограниченным понятием – это широкий спектр жанров и стилей с различными методиками, единственной общей чертой которых служит их укорененность в экзегетической традиции прошлых веков. И хотя подобный критерий для объединения в одну группу разноплановых тафсиров на первый взгляд представляется неприемлемым, все же, если обратить внимание на то, насколько глобальным изменениям подверглись основы религиозной идеологии, в том числе и экзегетики, сохранение некоторыми комментаторами прежних методологии и традиционных основ уже само по себе окажется общей и весьма существенной чертой, отличающей их от прогрессивных комментаторов.
Обращение к новым стилям и жанрам в области экзегетической литературы не привело к моментальному разрыву с прошлым, и поддержание прежних традиций неизменно было актуальным в традиционалистских кругах. В период с 1320/1902 по 1360/1941 это ощущается заметнее, особенно в таких регионах, как Иран, где в религиозных кругах возобладал юридический подход: здесь многие сочинения не только по жанру, но и по содержанию были абсолютно традиционными, в них не наблюдалось и намека на какой-либо прогресс.
В качестве примера всеобщих комментариев в традиционном стиле можно назвать Тафсир Сулаймана ал-Кашани [1], Джавами‘ ал-хайрат фи тафсир ал-айат [«Собрания благ в толковании айатов [Корана]»] Хабибаллаха ал-Куми (ум. 1359/1940) [2] и Тафсир-е кабир [«Большой комментарий»] Хади ал-Баджастани (ум. 1949) [3]. Примером комментария, основанного на сунне (ал-тафсир би-л-ма’сур), служит Тафсир ал-айат ал-бахира [«Толкование блистательных айатов»] Мухаммада Хасана Мийанджи (ум. 1344/1926) [4]. Примером стиля айат ал-ахкам («предписывающие айаты») является Лубб ал-лубаб [«Сокровенность сердец»] Абу Тураба Хансари (ум. 1345/1927) [5].
Против ожидания, вторая половина XIV/XX в. стала эпохой возрождения объемных комментариев, написанных в совершенно традиционном стиле. В их числе можно указать Тафсир-е раван-е джавед [«Толкование Вечного Духа»] Мухаммада Сакафи Техрани (ум. 1406/1986) в 5 томах [6], Тафсир-е исна‘ашари [«Толкование двунадесятников»] Саййида Хусейн-Шаха ‘Абд ал-‘Азими (ум. 1389/1970) в 14 томах [7], Тафсир-е ‘Амили [«Комментарий ‘Амили»] Ибрахима Мувассака ‘Амили (ум. 1388/1969) в 8 томах [8], Анвар-е дерахшан [«Блистающий свет»] Саййида Мухаммад-Хусейна ал-Хамадани (ум. 1417/1996–1997) в 18 томах [9], Тафсир-е джами‘ [«Всеобщий комментарий»] Ибрахима Буруджерди в 7 томах [10], Атйаб ал-байан фи тафсир ал-Курʼан [«Лучшее из разъяснений в толковании Корана»] ‘Абд ал-Хусейна Тайиба (ум. 1411/1990–1991) в 14 томах [11] и Тафсир ал-баса’ир [«Толкование прозрений»] Йа‘суб ад-Дина Растегара Джуйбари в 25 томах [12]. В суннитских кругах также имеются многочисленные примеры всеобщих тафсиров. В качестве примера комментариев-хашийа, создававшихся в суннитской среде, можно назвать Хашийа Камиля ибн Мустафы ал-Тараблуси (ум. 1312/1894–1895) на тафсир ал-Байдави [13], Хашийа Мухаммада ибн ‘Абдаллаха ибн Завака (ум. 1311/1893–1894) [14] и марокканского ученого Бадр ад-Дина Мухаммада ал-Хасани (ум. 1354/1935) [15] на Тафсир ал-Джалалайн. Тафсир ан-Насафи стал предметом комментирования только в этом столетии. Здесь можно отметить хашийа ‘Абд ал-Хакима Афгани ал-Кандахари (ум. 1326/1908) [16], Мухаммада ‘Абд ал-Хакка ал-Аллахабади (ум. 1333/1915) [17], египетского ученого Мустафы Хакима (ум. 1341/1922–1923) [18] и Ибрахима Джанаджи Басилата (ум. 1352/1933) [19]. Некоторые комментаторы, такие как Бадр ад-Дин ал-Хасани, были реформаторами [20].
В имамитской среде следует упомянуть хашийа Абу ал-Касима Хусейни Дехкарди (ум. 1353/1934) на ас-Сафи ал-Файда ал-Кашани [21], хашийа Махди Сарави (ум. ок. 1361/1942) на тафсир ‘Али ибн Ибрахима ал-Кумми, Маджма‘ ал-байан фи тафсир ал-Кур’ан [«Собрание разъяснений о толковании Корана»] ат-Табарси и ас-Сафи ал-Файди ал-Кашани [22]. Кроме того, Баджастани, используя суннитские комментарии, основанные на предании (ал-тафсир би-л-ма’сур), написал завершение на тафсир ал-Кумми [23].
В числе немногочисленных опытов сокращения ранних комментариев можно отметить сокращение Тафсира ат-Табари, выполненное Мухаммадом Тайибом ал-Ансари (ум. 1363/1944), ученым-салафитом из Магриба [24], а также сокращение Тафсира Ибн Касира, сделанное Ахмадом Мухаммадом Шакиром (ум. 1377/1957–1958), египетским ученым-традиционалистом [25].
Имеются также многочисленные примеры комментариев на отдельные суры [26] – из них в период между 1352/1933 и 1374/1954–1955 были изданы комментарии Мухаммада Тутунчи ат-Табризи на суры «Открывающая» (1), «Предвечернее время» (103), «Подаяние» (107) и «Искренность» (112). Суннитские комментаторы тоже писали толкования на различные суры [27]. Некоторые из этих комментаторов, например Мухаммад Мустафа ал-Мараги, был из числа реформаторов [28].
В жанре суфийского комментария также можно насчитать несколько образцов, однако примеров следования своего рода переосмыслению суфийской экзегетики, как с точки зрения методологии, так и с точки зрения учения, найдется немного. Самым ярким из них является Тафсир-е Кейван [«Комментарий Кейвана»] Кейвана Казвини (ум. 1357/1938).
Одним из изменений, произошедших в современном тафсире, является принятие традиционной методологии для его возрождения. Такой подход главным образом наблюдается в наджафской школе, стремящейся утвердить новые экзегетические методы и идеи на базисе юридического мышления и основах фикха. Это движение было начато в Наджафе Мухаммадом Джавадом ал-Балаги (ум. 1352/1933). Первым плодом этого движения явился незаконченный комментарий Ала’ ар-Рахман [«Благодеяния Милостивого»] [29], за которым последовал ряд коротких комментариев Хибат ад-Дина аш-Шахрастани (ум. 1387/1967) [30], а расцвета оно достигло в незаконченном ал-Байан фи тафсир ал-Курʼан [«Разъяснение в толковании Корана»] [31] Абу ал-Касима ал-Хойи (ум. 1413/1992–1993).
Кроме того, за последние полстолетия на толкование Корана с помощью самого Корана, впервые распропагандированное реформаторами, стали обращать внимание даже в суннитских кругах. В глазах этой группы, принимающей доказательную силу внешней формы выражения Священной Книги, Коран считался первым комментатором, не нуждающимся в извлечении из него его самодостаточного смысла, а также в слепом использовании преданий и логических доводов [32]. Наилучшим примером воплощения этой идеологии является комментарий ал-Мизан [«Мерило»] Мухаммад-Хусейна Табатаба’и, в основу которого положен принцип толкования Корана с помощью самого Корана и в котором примиряются предания и доводы разума. Методология комментария Табатаба’и оказала сильнейшее влияние на имамитскую экзегетику последних десятилетий, особенно в Иране.
Поскольку в нынешнем столетии в научно-богословских кругах присутствуют также лица, получившие светское образование, будет справедливым ожидать, что они тоже проявят склонность к тафсиру. Так, за пределами научных кругов, будь то традиционалисты или реформаторы, необходимо выделить группу мыслителей недуховного сословия, которые в защите своего учения предпочитали обращаться к религиозным источникам, преимущественно к Корану. Безусловно, первые поколения университетских кругов мусульманского мира, особенно в области гуманитарных наук, сами не имели университетского образования. В эти круги привлекались самые разные люди.
Преимуществом иранских ученых-комментаторов с университетским образованием является более широкая читательская аудитория, при том что внутренней особенностью их комментариев является продолжение экзегетической традиции. В их числе необходимо отметить комментарий на суры «Открывающая» (1) и «Искренность» (112) Мухаммада Сангалджи [33], комментарий на 30-й джуз’ Ахмада Тарджани-заде под названием Шегефтиха-йе афаринеш [«Удивительное в творении»] [34] и неоконченный комментарий Хусейн-‘Али Рашида [35]. При этом в суннитской среде, особенно в Египте, Сирии и Северной Африке, комментарии, созданные представителями светского сословия, демонстрируют прогрессивный подход.
Различные подходы к новому прочтению Корана
С утверждением классификации Абу ал-Калама Азада одним из подходов является обновленческий подход Саййида Ахмад-хана (ум. 1316/1898), автора комментария к Корану. Однако поскольку этот тафсир не является зачинателем отдельного направления, приходится ограничиться констатацией того, что Ахмад-хан, в отличие от прочих прогрессивных тафсиров, перечитывая Коран, не стремился извлекать из него социально-нравственные постулаты для улучшения жизни отдельных мусульман и всего мусульманского общества в целом. Преимуществом комментария Ахмад-хана перед ранними тафсирами является аллегорическое истолкование сверхъестественного. Тафсир Саййида Ахмад-хана, включающий в себя комментарий 16 начальных сур Корана, ограничивается аллегорическим толкованием сообщений об ангелах, джиннах, рае и аде, Откровении и чудесах пророков – автор пытается представить эти понятия как поддающиеся постижению практическим взглядом. Джамал ад-Дин ал-Афгани/ал-Асадабади написал статью Тафсир-е муфассар [«Комментируемый комментарий»] [1] с критикой упомянутого комментария. Невозможно привести пример продолжения идей и методологии Саййида Ахмад-хана – ни один из научных тафсиров и ни один «обновленческий» комментарий не имеет с ними ничего общего. Видные деятели обновленческого движения в других точках мусульманского мира, например, в Иране, Османской Турции и Египте, не обращались к пересмотру религии и Священного Корана.
Исключением является ‘Абд ар-Рахим Талыбов ат-Табризи (ум. 1328/1910). Последний был убежден в том, что между чистым исламом и обновленческим движением не существует никакого противоречия, и утверждал, что в процессе исправления и модернизации общества сохранение основ религии является обязательным [2]. Однако, несмотря на то что в своих трудах Талыбов неоднократно ссылается на коранические айаты, он не создал отдельного сочинения, посвященного экзегетике.
Вторая группа реформаторов, о которой упоминает Азад и во главе которой стоит Джамал ад-Дин ал-Афгани, а именно социальные реформаторы, создала предпосылки для возникновения ряда экзегетических сочинений, большая часть которых написана в форме тематических тафсиров. Хронологически это течение ограничено первой половиной XIV/XX в. – представляется, что во второй половине упомянутого столетия для деятельности социальных реформаторов не было предпосылок, и в прогрессистских кругах возобладали религиозные реформаторы.
Сам Джамал ад-Дин ал-Афгани не написал ни одного труда по экзегетике, однако в числе достижений в области коранической экзегезы прочих социальных реформаторов можно указать следующие сочинения: ‘Унван ал-байан [«Зачало разъяснения»] Хасана ибн Ахмада, известного как Хасан Тавиль (ум. 1317/1899), египетского мыслителя и реформатора, уехавшего в Судан и примкнувшего к местной общине «Защитников Махди» [3]; Тарджамат ал-Кур’ан фи шара’ит ал-иман [«Толкование Корана при условиях веры»] Мухаммада Таки, известного как Саййид Ака Казвини (ум. 1332/1914) – здесь разбирается около 500 айатов, связанных с общественной жизнью индивидуума, и особенно на основании коранических айатов исследуются отношения мусульман с последователями других религий [39]; ал-Кур’ан ва-л-‘акл [«Коран и разум»] Нур ад-Дина Араки: последний составил этот труд в годы Первой мировой войны (1332–1336 / 1914–1918) на турецком фронте – здесь автор, подвизавшийся на ниве юриспруденции и философии, попытался, размышляя над Священным Кораном, показать, что в нынешнем веке Священная Книга и разум сопутствуют друг другу [4]; Тафсир Хусейни [«Комментарий Хусейни»] Мухаммада ибн Ибрахима Хусейни ат-Тараблуси (1270–1359/1854–1940), ливанского ученого, который помимо упомянутого тафсира, в другом своем сочинении, Рисалат фи татбик ал-мабади ад-динийат ‘ала кава‘ид ал-иджтима‘ [«Трактат о согласовании основ религии с правилами общества»], обращаясь к толкованию айатов, пытается доступным образом объяснить их с позиций социологии [5]; и Усул ал-Кур’ан ал-иджтима‘ийа [«Социальные основы в Коране»] Абу ‘Абдаллаха Занджани (ум. 1360/1941), иранского реформатора, перебравшегося в Египет [6].
Подход религиозных реформаторов
Религиозные реформаторы, во главе которых стоял египетский факих шайх Мухаммад ‘Абдо (ум. 1323/1905), искали ответ на следующий вопрос: каким образом можно обрести правильную и чистую религию? Единственным путем для них было обращение к Корану и отказ от подражательных комментариев – подобная необходимость заставила их заняться коранической экзегезой и пересмотреть методологию последней. В основу методологии своего комментария ‘Абдо положил несколько базовых принципов: понимание языка Корана в соответствии с основным значением слов и словосочетаний, понимание особой стилистики Корана и ее отличия от бытовых текстов, знание тех особенностей, которые позволяют Корану быть наставником для всего человечества, знакомство с жизнеописанием пророка Мухаммада, а также знание истории всего человечества в целом и социальных условий арабов эпохи неведения (джахилийа) в частности [1].
Сочетание упомянутых особенностей привело ‘Абдо к тому, что, с одной стороны, он понимает Коран в русле его первых слушателей на заре ислама, а, с другой стороны, он, как мыслитель-социолог, стремится трактовать коранические айаты, имеющие характер непреходящего и всеобъемлющего учения, в социальном контексте современной эпохи. Представляется, что сочетать эти две трактовки не всегда легко – именно поэтому возникли предпосылки для различного понимания идей и методологии ‘Абдо.
Еще одной особенностью комментария ‘Абдо было его убеждение в том, что если при обсуждении юридических вопросов в Коране читатели смогут понять его законодательную мудрость, у них будет больше стимулов для ее воплощения в жизнь. Однако во многих юридических установлениях Корана их предписывающий характер не очевиден, при том что, если бы было нужно, этот характер явственно ощущался бы в самом же Коране. Именно эта особенность двойственности методологии ‘Абдо открыла перед его учениками различные пути. Одни из них полагали, что темные места в Коране должны оставаться таковыми, даже если они связаны с кодификацией предписаний, а там, где ‘Абдо пускается в их объяснения, он отступает от собственных принципов. Другие, опираясь на постулат, что основной целью Корана является наставление человечества, говорят о широте законодательной мудрости в комментарии ‘Абдо.
Одновременно с ‘Абдо похожий опыт предпринял в Сирии Джалал ад-Дин ал-Касими (ум. 1332/1914), автор Тафсир ал-Касими [«Комментарий ал-Касими»], или Махасин ат-та’вил [«Похвальные аллегорические толкования»], искавший срединный путь. Используя взгляды комментаторов прошлого, ал-Касими пытался представить методику нового понимания и извлечения из Священного Корана новых положений вероучения [2]. ‘Абдо и ал-Касими отличает друг от друга разрыв первого с экзегетической традицией прошлого и стремление последнего к обобщению.
В середине XIV/XX в. не только в Египте, но и в других частях мусульманского мира эталоном реформаторского комментатора был ‘Абдо – целый ряд реформаторов считали, что их взгляды испытали на себе его влияние. В зависимости от того, какую из идей ‘Абдо они развивали, его ученики делятся на несколько групп.
Группа наиболее ревностных из них известна под именем «салафитского течения». Все поздние трактовки коранических айатов они считали «нововведением», полагая, что для правильного понимания традиции нужно обращаться только к Священной Книге и сунне пророка. За исключением базовых положений, представители этой группы не пытались установить особую связь с кем-либо – даже с такими учеными-салафитами прошлых веков, как Ибн ал-Джаузи и Ибн Таймийа [3]. В большей степени, чем сам ‘Абдо, они делали упор на значение сунны пророка. Добавлением к его методике является то, что они считали заслуживающими доверия взгляды на экзегетику асхабов, их сподвижников (таби‘ун) и ранних комментаторов. Символом этого течения среди учеников ‘Абдо был Мухаммад Рашид Рида (ум. 1354/1935), который собрал лекции учителя и составил из них сочинение Тафсир ал-манар [«Комментарий Корана “Маяк”»] [4]. В силу того, что Тафсир ал-манар заключает в себе взгляды ‘Абдо, а также ввиду его тематической упорядоченности это сочинение является одним из самых влиятельных комментариев в суннитской среде за последние сто лет. Среди продолжателей идей Мухаммада Рашида Риды можно назвать Мухаммада ‘Абд ал-‘Азима аз-Заркани, автора Манахил ал-‘ирфан фи ‘улум ал-Кур’ан [«Источники сокровенного знания о науках Корана»] [5].
Ответвлением, выросшим из салафитского круга учеников ‘Абдо, является учение Хасана ал-Банна’, основателя ассоциации «Братьев-мусульман», который в своем труде Назарат фи китаб Аллах [«Исследования Корана»] взялся за социологическое истолкование избранных айатов [6]. Примкнувший к «Братьям» Саййид Кутб (казнен 1386/1966) написал комментарий Фи зилал ал-Кур’ан [«Под сенью Корана»] [7]. Он также является автором сочинений ат-Тасвир ал-фанний ал-Кур’ан [«Искусная картина Корана»] и Машахид ал-кийама фи-л-Кур’ан [«Свидетельства о Дне воскресения в Коране»], демонстрирующих совершенно новый филологический подход к языку Корана, однако в вопросах стилистики следующих заветам ‘Абдо. В своем комментарии Кутб представлял текст Корана в виде единой цепочки взаимосвязей и взаимозависимостей, а в тех местах, где эта связь не была столь очевидной, он методично старался ее показать.
Другая группа учеников ‘Абдо считала некоторые из его методов слишком радикальными и стремилась избавиться от них, сохраняя при этом положительные моменты учения своего учителя. Их метод обобщения весьма походил на Джалал ад-Дина ал-Касими. В противоположность группе салафитов их можно назвать «принимающими традицию» – наиболее выдающимся их представителем является Мухаммад Мустафа ал-Мараги (ум. 1371/1952). Они были убеждены в необходимости использования экзегетических источников предшественников, однако, отдавая превосходство комментарию Корана с помощью самого Корана, а также обращая особое внимание на социальное учение в Коране и его законодательную сторону, они шли по пути ‘Абдо. Следующие шаги в этом направлении были сделаны ‘Абдаллахом Дарразом в его ад-Дастур ал-ахлаки фи-л-Кур’ан [«Нравственные предписания в Коране»] [8] и ал-Анба’ ал-‘азим [«Великое известие»] [9], в основу которых был положен структурный подход для достижения методологического толкования Корана с помощью самого Корана.
Третье течение, которое можно назвать «филологическим», продолжало методику ‘Абдо в области изучения языка Корана, в частности, его советам расширить эту сферу исследований. При этом к учению этой группы в меньшей степени примешивалась социальная составляющая. Наиболее часто упоминаемым представителем этого направления является Амин Холи (ум. 1386/1966), который в области филологии, помимо ‘Абдо, находился под сильным влиянием Таха Хусейна, служившего символом инакомыслия в арабском мире. Сочетание в теории Холи идей ‘Абдо и Таха Хусейна подготовило почву для создания сочинения по методологии под названием Манахидж ат-тадждид фи-н-нахв ва-лбалагат ва тафсир ва-л-адаб [«Пути обновления в грамматике, стилистике, толковании и филологии»], а также другой работы, специально посвященной методологии
коранической экзегезы, ат-Тафсир ма‘алим хайату-ху манхаджа-ху-л-йаум [«Толкование: его современное бытование и методология»] [10]. Холи развивал высказывание ‘Абдо, в котором последний говорил о вкусе к пониманию слова – том вкусе, который порождает в дееспособном человеке постижение смысла Корана. Западные исследователи назвали методологию Холи «литературным тафсиром» [11]. Цикл лекций на тему «Притчи в Коране», прочитанный Холи в Каирском университете, был изложен его учеником Мустафой Насифом. Другой ученик Холи, Мухаммад Халафаллах, скандально известный мыслитель, обвиняемый в «нововведениях», написал в этом же русле трактат ал-Фанн ал-кисаси [«Сказительское искусство»] [12]. ‘Аиша ‘Абд ар-Рахман бинт аш-Шати составила комментарий под названием ат-Тафсир ал-байани ли-л-Кур’ан ал-Карим [«Комментарий, разъясняющий Священный Коран»]. Все они представляли собой новое слово в осмыслении методики толкования Корана. Целый ряд наиболее прогрессивных современных деятелей в области теории коранической экзегетики прямо или косвенно вышли из круга Холи. Проводимое особыми методами в ряде современных комментариев, например, ат-Тафсир ал-хадис [«Современное толкование Корана»] Мухаммада ‘Иззата Дарвазе, изучение структурных взаимосвязей в языке Корана, имеющее целью исследование создаваемого им смысла, вылилось в создание структурных методик – именно эта особая методика побудила его к структурированию своего тафсира по принципу порядка низведения сур [13].
В кругах правоведов арабских стран наблюдается также побочное течение в области экзегетики, интересы которого иногда выходили за пределы юриспруденции, представляя собой общесоциологическое осмысление Корана. Взаимная близость школ, восходящих к ‘Абдо, в этих кругах ощущалась сильнее. Так, можно отметить ‘Абд ал-Мута‘аля Са‘иди и его статьи, посвященные коранической экзегетике, например, «Спорное в Коране» [14]. Другим ученым, принадлежащим к этим кругам, является ‘Абд ал-Ваххаб Халаф (ум. 1375/1956), который, помимо трудов по иджтихаду и его возрождению в шари‘ате, написал сочинение Нур мин ал-Кур’ан ал-Карим [«Свет Священного Корана»], посвященный истолкованию избранных айатов [15]. Махмуд Шалтут (ум. 1383/1963), основатель «Дар ат-такриб байн ал-мазахиб ал-исламийа» [«Дом сближения мусульманских религиозных течений»], также принадлежал к тем же кругам – в сборнике своих статей, озаглавленном «Толкование Священного Корана», он избрал социально-тематический подход [16]. В этой же группе необходимо упомянуть и сирийского правоведа Мухаммада Камаля ал-Хатиба, написавшего краткий комментарий Назарат ал-‘аджалан фи аград ал-Кур’ан [«Краткий обзор целей Корана»] [17] .
Упомянутая схема в значительной степени подходила для деятельности, осуществлявшейся в Северной Африке и на индийском субконтиненте. В Алжире ‘Абд ал-Хамид Ибн Бадис ас-Санхаджи (ум. 1359/1940), автор Тафсир Ибн Бадис [«Комментарий Ибн Бадиса»], а также ал-‘Ака’ид ал-исламийа мин ал-айат ал-кур’анийа ва-л-ахадис ан-набавийа [«Основоположения ислама из коранических айатов и пророческих хадисов»] [18], склонялся к салафитам. Тафсир ат-Тахрир ва-т-танвир [«Освобождающий и просвещающий»] тунисского ученого Мухаммада Тахира ибн ‘Ашура (ум. 1393/1973) носил преимущественно обобщающий характер. В этом 15-томном комментарии стоят бок о бок предания и умозрительные рассуждения. Главные усилия автора направлены на осмысление языка Корана, особое внимание он уделяет стилистике последнего. Иногда Ибн ‘Ашур обращается и к научному комментарию [19]. Единственный значительный ибадитский комментарий за последние столетия, Тайсир ат-тафсир [«Облегчающий толкование»] [20], был написан Мухаммадом ибн Йусуфом Атфишем (ум. 1332/1914), алжирским ученым-реформатором.
За пределами арабского мира, на индийском субконтиненте, реформаторские комментарии появлялись в больших количествах: некоторые из них носили салафитский характер, некоторые – традиционный [21]. Примером реформаторского комментария, созданного в Юго-Восточной Азии, является написанный на малайском языке Тафсир ал-Фуркан [«Комментарий на “Различение”»] яванского ученого Хасана ибн Ахмада Бандунга (ум. 1378/1958) [22]. В Турции, на Кавказе и в Центральной Азии в силу специфики культурной политики до самых последних десятилетий существовало значительно меньше предпосылок для создания комментариев [23].
В Иране и других ши‘итских государствах в целом не наблюдается явного разрыва между современной и традиционной экзегетикой, а потому здесь нельзя брать за образец суннитскую классификацию тафсиров. В ши‘итской среде не было предпосылок для возникновения полноценного салафитского комментария, при этом целый ряд методов салафитских комментаторов охотно принимался. Так, например, тафсир Партови аз Кур’ан [«Излучающее сияние Корана»] Саййида Махмуда Талекани (ум. 1358/1979) в вопросах языка и стилистики Корана находился под сильнейшим влиянием методологии Саййида Кутба [24]. Имеются примеры и традиционных комментариев в рамках реформаторского подхода, в числе которых можно отметить ал-Кашиф [«Раскрывающий»] Мухаммада Джавада Муганнийи [25]. Использование в исследованиях по экзегетике новых методов, например математических, взятых за основу Махди Базарганом в его труде «Эволюция Корана и последовательное толкование Откровения», в зависимости от масштабов личности комментатора явилось только одним из шагов на пути расширения методологии коранической экзегетики и не означало отмену традиционных методов.
Научная экзегетика
Несмотря на то что поиски согласия между данными современной науки и кораническими айатами велись с конца прошлого столетия, найдя отражение в таких сочинениях, как Тафсир Саййида Ахмад-хана Хинди и Кашф ал-асрар ан-нуранийа [«Раскрытие просвещающих тайн»] Мухаммада ибн Ахмада ал-Искандарани (ум. 1306/1889), все же подлинной отправной точкой для научного тафсира является труд египетского ученого Тантави Джавхари (ум. 1358/1940) Джавахир фи тафсир ал-Курʼан [«Жемчужины в толковании Корана»]. В этом комментарии те места из Корана, которые можно было связать с достижениями современной науки, Тантави попытался истолковать таким образом, чтобы исчезли всякие сомнения в том, что Священная Книга противоречит науке. Джавахир вызвал целый ряд протестов, в числе которых можно отметить опровержение имамитского ученого Ахмада Шахруди (ум. 1350/1932) [1].
Последующие опыты в рамках научного комментария обычно предпринимались в форме тематического тафсира и не вылились в создание полного толкования. Эта разновидность комментария, весьма популярная в середине столетия, преследовала двоякую цель. На первом этапе ее задачей была защита истинности Корана перед лицом сомнений в том, что он не противоречит науке. В ряде сочинений, написанных в жанре научного комментария, особенно в середине столетия, их авторы пытались, используя достижения современной науки, сделать более осязаемым смысл некоторых казавшихся неясными айатов, в целом привлекая науку в качестве инструментария для истолкования Корана и понимания айатов. Здесь можно упомянуть ат-Тафсир ал-‘илми ли-л-айат ал-каунийат [«Научное толкование “астрономических” айатов»] Ханафи Ахмада, который рассматривает преимущественно вопросы, связанные с астрономией [2]. В течение полувека в Иране, Египте, а также других точках мусульманского мира появились десятки сочинений, написанных в рамках подобного подхода [3]. Появление в последние десятилетия на Западе движения против науки и уменьшение давления западной науки на религиозные верования уменьшило стимул для создания научных комментариев, значительно снизив их количество. При этом в последнее время было написано несколько книг и университетских пособий по основам экзегетики и истории ее развития [4].
Ахмад Пакетчи
Литература:
Baljon, J. M. S. Modern Muslim Koran Interpretation. Leiden, 1961. Bankipore.
Jansen, J. J. G. The Interpretation of the Koran in Modern Egypt. Leiden, 1974.
Johns, A. H. «Islam in the Malay World: an Exploratory Survey with some Reference to Quranic Exegesis», Islam in Asia, Jerusalem, 1984.
Jomier, J. Le Commentaire coranique du Manar: tendances modernes de l’exégèse coranique en Égypte. Paris, 1954.
Razi Khan, J. An Analytical and Critical Approach to Qur’anic Comprehensions in Indian Subcontinent During Last Two Centuries, PhD Thesis Presented at Imam Sadiq University. Tehran, 2007.
Riddell, P. «Controversy in Qur’anic Exegesis and its Relevance to the Malayo-Indonesian World», The Making of and Islamic Political Discourse in Southeast Asia. Clayton, 1993.
Rippin, A. Approaches to the History of the Interpretation of the Qur’an. Oxford, 1988.
Id. «The Present Status of Tafsir Studies», Muslim World, 1982, vol. LXXII.
Samso Moya, J. «Problemas linguisticos de la nahda vistos a traves de algunos textos autobiograficos de Muhammad ‘Abduh, Ahmad Amin y Taha Husayn», Orientalia Hispanica, 1974, vol. I.
Setiawan, M. N. Kh. «The Literal Interpretation of the Qur’an; A Study of Amin al-Khuli’s Thought», Quranic Studies on the Eve of the 21st Century. Leiden, 1998.
Абу Хаджар, Ахмад. Тафсир ал-‘илми ли-л-Кур’ан фи-л-Мизан [«Научный комментарий Корана в ал-Мизане»]. Бейрут, 1411/1991.
Аз-Захаби, Мухаммад-Хусейн. ат-Тафсир ва-л-муфассирун [«Толкование Корана и толкователи»]. Бейрут, 1421/2000.
Аз-Зерекли, Хайр ад-Дин. Ал-А‘лам [«Выдающиеся деятели»]. Б. м, б. г.
Айази, Мухаммад-‘Али. Кур’ан ва тафсир-е ‘асри [«Коран и современная экзегеза»]. Тегеран, 1376/1997.
Ака Бузург Техрани. Аз-Зари‘а ила тасаниф аш-ши‘а [«Апология ши‘итских сочинений»]. Тт. 1–20. Тегеран, 1390/1970.
‘Акики Бахшийаши, ‘Абд ар-Рахим. Табакат-е муфассиран-е ши‘е [«Разряды ши‘итских комментаторов»]. Кум, 1371/1992.
Ал-Касими, Мухаммад. Махасин ат-та’вил [«Похвальные аллегорические толкования»]. Бейрут, 1978.
Араки, Нур ад-Дин. ал-Кур’ан ва-л-‘акл [«Коран и разум»]. Тегеран, 1352/1973.
Дарвазе, Мухаммад ‘Иззат. ат-Тафсир ал-хадис [«Современное толкование [Корана]»]. Каир, 1376/1956.
Ибн ‘Ашур, Мухаммад-Тахир. ат-Тамхид [«Введение»] / подг. Мустафа ‘Алви и Мухаммад ‘Абд ал-Кабир Бакри. Рибат, 1387/1967.
Его же. ат-Тахрир ва-т-танвир [«Освобождающий и просвещающий»]. Бейрут: Дар ал-кутуб аш-шаркийа, б.
Ал-Кур‘ави, Сулайман. Тафсир ал-‘илми ал-му‘асир [«Современная научная кораническая экзегетика»]. Дар ал-хизарат, 2004.
Махмуди. Мавсу‘ат му’аллифи ал-имамийа [«Справочник имамитских авторов»]. Кум, 1378/1999.
Мударрис Табризи, Мухаммад-‘Али. Райханат ал-адаб [«Возвышенность добронравия»]. Тегеран, 1369/1990.
Рида, Мухаммад Рашид. Тафсир ал-манар [«Комментарий Корана “Маяк”»]. Бейрут: Дар ал-ма‘рифа, б. г.
Табатаба’и, Мухаммад-Хусейн. ал-Мизан [«Мерило»]. Бейрут, 1417/1997.
Ат-Табризи, Джавад. Сират ан-наджат [«Путь спасения»]. Кум, 1416/1996.
Фахд, ‘Абд ар-Рахман Сулейман ар-Руми. Иттиджахат тафсир фи-л-курун ар-раби‘ ‘ашара [«Течения в области коранической экзегетики в XIV/XX в.»]. Каир, 1407/1986.
Хуррамшахи, Баха ад-Дин и др. Данешнаме-йе Кур’ан ва Кур’анпажухи [«Энциклопедия по Корану и коранистике»]. Тегеран, 1377/1998.
Его же. Тафсир ва тафасир-е джадид [«Кораническая экзегетика и новые комментарии»]. Тегеран, 1364/1985.
Хусейни, Ахмад. Тараджим ар-риджал [«Биографии известных мужей»]. Кум, 1414/1994.
Шариф, Мухаммад Ибрахим. Иттиджахат ат-тадждид фи тафсир ал-Кур’ан ал-Карим фи Миср [«Обновленческие тенденции в толковании Священного Корана в Египте»]. Каир, 1982.
Шахата, ‘Абд ар-Рахим Махмуд. Манхадж ал-амам Мухаммад ‘Абда фи тафсир ал-Кур’ан [«“Манхадж ал-амам” Мухаммада ‘Абдо о толковании Корана»]. Каир, 1963.