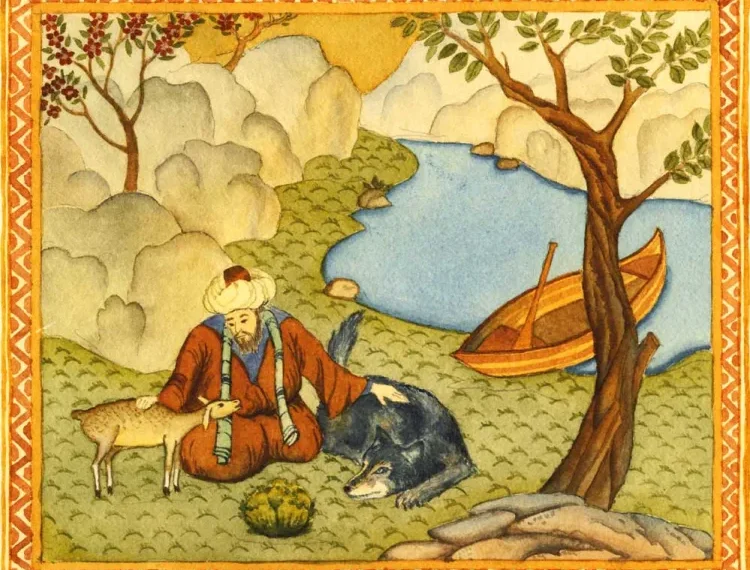Рийазат в терминологии суфизма означает соблюдение определенных ограничений, а также выполнение определенных действий с целью сдерживания, подавления и воспитания низшей души (ан-нафс).
Слово «рийазат» происходит из арабского корня «r-w-ḍ », обозначающего успокоение и воспитание души. В этом смысле этот термин означает «претерпевание трудностей в воспитании моральных и духовных качеств, посредством исполнения обрядовых норм телом и сердцем». Однако некоторые исследователи считают, что слово «рийазат» происходит из корня «r-ḍ-ḍ», означающего «бить», «разрушать» и «измельчать», другие же утверждают, что это слово происходит из корня «r-ḍ-y», который означает «взаимное согласие между Богом и человеком». В суфийской терминологии (ал-‘ирфан) «рийазат» значит упражнение низшей души (ан-нафс), с целью сопротивления привычкам, отрицательным качествам души, а также сдерживанию страстей и гневных порывов. Суфии считают, что именно это создает основу для непосредственного принятия Истинного сердцем человека[1].
С самого начала последователи суфизма считали рийазат (который они также именовали «муджахада») особенно важной частью следования по духовному пути (сулук), ссылаясь на следующий айат из Корана: «А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями»[2]. Муджахада и рийазат считались одними из самых важных стоянок на пути суфия. Суфии также аргументировали это, ссылаясь на высказывание Пророка, который, вернувшись после битвы при Табуке, назвал последнюю «малым джихадом» (джихад ал-асгар) и призвал своих сподвижников к «великому джихаду» (джихад ал-акбар), то есть к борьбе (ал-муджахада) со своей низшей душой (ан-нафс). Пророк и его сподвижники считали, что усмирение своих страстей, без которого невозможно достижение высшего духовного уровня, делом намного более сложным, чем любое сражение с внешним врагом на поле боя[3].
Суфии, обосновывая свои практики рийазата, то есть свою отрешенность от мира и стремление к уединению, ссылались на пример простой, скромной и миролюбивой жизни Пророка и аскетизм его сподвижников – они считали их жизнь примером для себя[4].
Следует отметить, что, с исторической точки зрения, суфизм формировался как бунтарское движение, члены которого, посредством отстранения и аскетизма, противопоставляли себя роскоши, расточительству (ал-исраф) и обмирщению, распространившемуся в исламском обществе после завоеваний I и II веков хиджры (VII и VIII веков н.э.). В рамках этого аскетического движения, не имевшего, однако, своей четкой организационной структуры, суфии, проживавшие на различных исламских территориях, избегали жизни в городах и отдалялись от нее, предпочитая отдаленные области, бесплодные пустыни, монастыри или приграничные зоны, где они занимались поклонением, держали пост и молились, погружаясь в аскетизм, голодая и пребывая в страхе перед Всевышним. Их жизнь была пропитана самоотречением, лишениями и трепетом перед Богом. По отношению к этим людям использовались такие термины, как зуххад (аскеты), ‘уббад (рабы Божьи), нуссак (отрешенные), курра’ (чтецы Корана), джу’аййа (голодающие), баккаун (плачущие)[5].
Одним из тех, кто в I в. х. / VIII в. н.э. создал интеллектуальную базу и основу для формирования этого движения, был Хасан Басри (ум. 110 г. х. / 728 г. н.э.), который в своих проповедях акцентировал внимание на страхе перед Судным днем, искреннем признании своих грехов и осознании последующего за ними наказания, а также на слабости человеческой природы. Он призывал к отрешенности от мира, к аскетизму, подавлению соблазнов и желаний плоти, а также отстаивал необходимость принятия и понимания своей самости для усмирения и очищения низшей души (ан-нафс)[6].
В проповедях суфиев, появившихся после Хасана Басри важное место занимала тема низшей души и подавления желаний, влечений плоти и чувств; многочисленные свидетельства указывают на то, что для подавления этих желаний и влечений они иногда доходили до крайностей[7]. Движение, сформировавшееся после смерти Хасана Басри в разных частях исламского мира, было известно, в первую очередь крайнем аскетизмом, упором на рийазат, упование на Бога (таваккул) и смирение перед ним (таслим). В рамках этого движения имел место процесс теоретизации относительно того, что такое низшая душа (ан-нафс), каковы ее качества и недостатки, а также о методах воздействия на нее и ее очищения через аскетические практики. Этот процесс проявился в работах таких авторов, как Шакик Балхи (ум. 194 г. х. / 810 г. н.э.)[8]; Харис Мухасиби (ум. 243 г. х. / 857 г. н.э.)[9]; Абу ‘Абдаллах Хаким Тирмизи (ум. 319 г. х. / 931 г. н.э.)[10]; Абу Наср Саррадж Туси (ум. 378 г. х. / 988 г. н.э.)[11]; Абу Са‘д Харгуши (ум. 407 г. х. / 1116 г. н.э.)[12]; Абу ‘Абд ар-Рахман ас-Сулами (ум. 412 г. х. / 1021 г. н.э.)[13] и др. Во всех этих произведениях рийазат, в самых разных его проявлениях, является одним из самых важных способов воспитания и очищения души и, следовательно, рассматривается как одна из основных стоянок духовного пути (сулук)[14].
Хотя многие суфии с самого начала были скептически настроены по отношению к показному рийазату, к рийазату ради рийазата, а также к чрезмерному рийазату, некоторые из них считали необходимым претерпевание трудностей на духовном пути. Преодоление этих трудностей, они считали неотъемлемой частью воспитания и очищения души[15]. Тем не менее, в процессе становления института суфийских ханака и возникновения различных суфийских тарикатов в V-VI вв. х. / XI-XII вв. н.э., в каждом из которых шейхи устанавливали свои собственные методы прохождения духовного пути, аскетизм, в том числе избыточный, стал одним из основных способов духовного развития. Таким образом, уединение и рийазат, к которым прибегали под руководством духовных наставников (пир) тариката стали прочно ассоциироваться с суфиями[16].
Как уже упоминалось ранее, большинство суфиев считали рийазат первой стоянкой на духовном пути и считали его чем-то настолько же важным, как омовение перед молитвой (тахара или вуду). Согласно их убеждению, без рийазата душа мутнеет и наполняется сомнениями и разнонаправленными устремлениями. Таким образом, каждый суфий должен практиковать рийазат, сохранять контроль над своим телом, подавлять свои страсти и соблюдать умеренность в еде, сне и одежде, а также контролировать свои мысли в целях очищения и подчинения души[17].
В изложении некоторых других суфиев рийазат нужен для преодоления четырех «завес»: богатства, власти, подражания и греха. Путем их преодоления достигается четыре «стоянки»: благие слова, благие деяния, благой нрав и благое знание. Снятие упомянутых «завес» возможно посредством совершения четырех действий: уединение, молчание, умеренное питание и умеренный сон. Все это делается ради того, чтобы странник (суфий), обрел истинную человеческую природу и подлинное человеческое достоинство. На этом уровне суфию, чего бы именно он не хотел (телесной чистоты (тахара), благого нрава, благих мыслей, благого знания, раскрытия секретов мироздания и явления божественного света) – все это будет ему постепенно являться[18].
Согласно другим суфиям, рийазат очищает сердце от страстей и предотвращает его заботу о самом человеке, избавляясь, таким образом от тревог и сомнений, делающих сердце черствым и дряхлым. Через рийазат сердце становится чистым и, подобно зеркалу, в котором отражаются все духовные истины, связанные с загробной жизнью (ахира), открывается и отражает вечные истины[19].
Необходимо подчеркнуть, что суфийские теоретики всегда настаивали на важности осознанного рийазата и говорили о бессмысленности рийазата без понимания его сути. Согласно их убеждению, человек в течение своего духовного пути должен быть бдительным по отношению к некоторым важным моментам: во-первых, во всех обстоятельствах видеть божественную справедливость, милость и внимание, а не плоды собственных усилий и рийазата, а также понимать, что в духовном странствии божественное руководство имеет большее значение по отношению к усилиями странника и что без божественного вмешательства эти усилия не приведут к нужному результату; то есть он должен помнить, что именно благодаря божественному милосердию он имеет возможность практиковать рийазат и достигать посредствам этого определенного результата; во-вторых, его рийазат должен совершаться лишь с намерением угодить Богу, и ни с какими другими намерениями (даже такими похвальными, как обретение знания, мудрости или открытие тайн и др.); он должен понимать, что посредством очищения намерений, после достижения каждого уровня духовного развития, свойства этого уровня будут проявляться и в нем[20].
Некоторые суфийские авторы рассматривали два вида рийазата: внешний и внутренний. Внешний включает в себя очищение духовного нрава посредством борьбы с самим собой, отказ от того, к чему стремится низшая душа, чтобы развить в ней покорность, а также устранение привычек и сопротивление страстям и желаниям. Сокрытый включает в себя предотвращение души от обращения к чему-то, кроме Бога (мин дуни Аллах), вплоть до того момента, когда это не станет для нее чем-то обыденным[21]. Другие же разделяют рийазат на телесный и духовный. Телесный состоит из поста и претерпевания голода, бодрствование и соблюдение норм шари‘ата. Духовный включает в себя благодарность к Богу и упование на него в движении и в покое, а также избегание религиозной беспечности[22].
Хваджа ‘Абдаллах Ансари располагает поле рийазата после поля джихажа и делит его на три составные части: рийазат слова ради сохранения, что означает следование истинному знанию (т.е. действование в рамках знания законов шариата, а также заработок честным путем и постоянное поминание Бога); рийазат дела ради укрепления, что включает в себя чтение Корана, постоянное претерпевание нужды и наставление остальных людей на правильный путь; рийазат нрава ради смягчения, что включает в себя смирение, смелость и благородство по отношению к окружающим[23]. Он также рассматривает рийазат как часть начального этапа воспитания души для обретения ей искренности. По его мнению, он имеет три уровня: 1. Рийазат простых людей – очищение нрава через знание (т.е. действование в рамках знания законов шариата), очищение действий через искренность в их совершении (очищение от всякого рода гордости, лицемерия и двуличия), а также соблюдение условий договоров (отношение к человеку с уважением к его чести и достоинству, а также хорошее отношение к окружающим людям как в словах, так и в поступках). 2. Рийазат избранных включает в себя следующее: преодоление рассеянности (отрешение от мирского и искреннее сосредоточение на Всевышнем), абстрагирование от тех стоянок пути, которые уже пройдены и уважение к полученному знанию и его сохранение (через сохранение тайн и мудрости, которые открываются путнику). 3. Рийазат самых избранныхвключает в себя отрешение от свидетельствования (от множественности имен и атрибутов Бога, от двойственности свидетеля и свидетельствуемого), достижение стадии соединения с Богом и уничтожения человеческой сущности, отбрасывание противоречий (в восприятии имен Бога) и компромиссов (в восприятии того, что исходит от Истинного)[23].
Таким образом, очевидно, что с точки зрения суфиев рийазат, хотя и считается одной из начальных стоянок на пути, сам разделяется на некоторые уровни, зависящие от стойкости путника и от его усердия, а также от его прогресса в течение прохождения пути и достижения им более высоких духовных ступеней. Его рийазат выходит далеко за рамки телесных воздержаний – он приобретает внутреннее измерение и становится более тонким и глубоким. Именно поэтому суфии рассматривали его не столько как физическое воздержание, сколько как внутренний интеллектуальный процесс. Если божественная благодать помогает путнику, в то время как он проходит духовный путь под руководством духовного наставника и под его же руководством прибегает к рийазату, то результатом этого будет очищение сердца путника, преодоление завес, а также ясность истины для сердца ищущего. Таким образом он преодолевает материальный мир [‘алам-и шахадат] и попадает в мир духовный [‘алам-и малакут], где сможет найти мудрость и постигнуть истинную любовь к Богу[24].
Суфийские авторы занимались также поиском недостатков рийазата, так же, как они искали недостатки других суфийских практик. Они настаивали на том, что рийазат без понимания и осознанности, или рийазат, выполненный в подражание другим или выполненный с неправильными целями, приводит только к трудностям для тела и души и бессмысленным страданиям – он не приносит никаких плодов. Ими также упоминается показной рийазат, который практикуется в целях обретения статуса, известности и явления богоданных чудес. Вне зависимости от того, насколько тяжело он дается практикующему, он не дарует ему ничего, кроме заблуждения. Так как это действие основано на невежестве и обмане, оно также никуда не ведет[25].
Для них также важно, чтобы рийазат был постепенным, соответственно способностям и выносливости путника, и с увеличением его возможностей претерпевать подобное, становился все более трудным. Ведь если он сразу же перейдет к тяжелым практикам рийазата его душа станет «умирать» и ее качества погружаются в небытие.
Еще одним важным аспектом является соблюдение умеренности в рийазате, поскольку именно она (т.е. умеренность) является одним из основ этой практики. Чрезмерность в этом вопросе утомляет и изнуряет путника и лишает его способности справляться с повседневными делами, в том числе с его религиозными обязанностями. Чрезмерное стремление также приводит к изнеможению и выгоранию, оставляя человека без энергии для выполнения других своих обязанностей. Кроме того, чрезмерность в этом вопросе может вызвать в человеке слабость и подчинение низшей душе, что делает невозможным продолжение пути. Важно сохранять баланс и придерживаться необходимости, чтобы избежать чрезмерности и сохранить силы для выполнения повседневных и религиозных обязанностей[26].
Некоторые суфии также предлагают соблюдение определенных временных интервалов между периодами рийазата, чтобы в это время путник мог вернуть часть жизненной силы и духовного стремления. По их мнению, тот, кто постоянно ограничивает себя, лишается части терпения, он делает свою душу утомленной и вялой, что, в свою очередь, делает ее склонной к неповиновению и, следовательно, к шайтану. При этом время, отведенное для отдыха и досуга, увеличивает стремление путника и усиливает его самоконтроль. По этой причине некоторые шейхи некоторых тарикатов, которые славились тяжелыми практиками рийазата, например Сахл Тустари, считали обязательным для своих учеников и последователей поедание мяса в пятницу[27].
Литература:
На арабском и на персидском:
- Арберри А.Дж., Абд ал-Кадир А.Х. Предисловие // Адаб ан-Нафс / Тирмизи Х.
- ибн ‘Араби М. Инша‘ ад-Даваир (Изображение окружностей). Лейден, 1336 г. х. / 1917-1918 г. н.э.; Он же. Ал Футухат ал-Маккийа (Мекканские откровения). Бейрут.
- ибн ‘Асакир ‘А. Та’рих Мадинат Димашк (История города Дамаск) / под ред. ‘Али Шири. Бейрут, 1417 г. х. / 1996 г. н.э.
- ибн Манзур. Лисан ал-’Араб (Язык арабов).
- Абу Ну‘айм А. Хил’йат ал-Аулийа. Бейрут, 1406 г. х. / 1985-1986 г. н.э.
- Бахарзи Я. Фусус ал-’Адаб // Аурад ал-Ахбаб уа Фусус ал-’Адаб / под ред. Ираджа Афшара. Тегеран, 1345 г. с.х. / 1966-1967 г. н.э.
- Бадауи А. Та’рих ат-Тасаввуф ал-Ислами (История исламского мистицизма). Кувейт, 1978 г. н.э.
- Баха ад-дин Валад М. Ма’ариф / под ред. Наджиба Маила Харави. Тегеран, 1367 г. с.х. / 1988-1989 г. н.э.
- Табадакани Туси М. Тасним ал-Мукаррибин / под ред. Мухаммада Табатабаи Бехбахани. Тегеран, 1382 г. с.х. / 2003-2004 г. н.э.
- Тилимсани С. Маназил ас-Са’ирин / под ред. Абд ал-Хафиза Мансура. Кум, 1371 г. с.х. / 1992-1993 г. н.э.
- Хаким Тирмизи М. Адаб ан-Нафс / под ред. Артура Джона Арбери и ‘Али Хасана ‘Абд ал-Кадира. Каир, 1366 г. х. / 1947 г. н.э.
- Харгуши ‘А. Тахзиб ал-Асрар фи Усул ат-Тасаввуф / под ред. Сайида Мухаммада ‘Али. Бейрут, 2006.
- Ансари ‘А. Сад Майдан (Сотня полей) / под ред. Абд ал-Хаййа Хабиби. Кабул, 1341 г. х. / 1922-1923 г. н.э.; Он же. Маназил ас-Са’ирин / под ред. Абд ал-Гафура Равана Фархади. Тегеран, 1361 г. с.х. / 1982-1983 г. н.э.
- Парса М. Фасл ал-Хитаб. Ташкент, 1331 г. х. / 1912-1913 г. н.э.
- Саррадж Туси ‘А. Ал-Лума’ фи-т-Тасаввуф / под ред. Николсона. Лейден, 1914 г. н.э.
- Сулами М. Табакат ас-Суфиййа / под ред. Йоханнеса Педерсена. Лейден, 1960 г. н.э.
- Сухравади ‘А. Адаб ал-Муридин / пер. с араб на перс. Умара Ширкана; под ред. Наджиба Маила Харави. Тегеран, 1363 г. с.х. / 1984-1985 г. н.э.
- Шабистари М. Маджму’а-и Асар (Собрание сочинений) / под ред. Самада Муваххида. Тегеран, 1365 г. х. / 1986-1987 г. н.э.
- Шаркауи Х. Му’джам алфаз ас-Суфиййа. Каир, 1987 г. н.э.
- Садр ад-дин Ширази М. Каср Аснам ал-Джахилиййа / под ред. Мухаммада Таги Данишпужуха. Тегеран, 1340 г. с.х. / 1961-1962 г. н.э.
- ‘Ибади М. Ат-Тасфиййат фи Ахвал ал-Мутассауифа / под ред. Гулам Мухсина Юсуфи. Тегеран, 1347 г. с.х. / 1968-1969 г. н.э.
- Каши ‘А. Шарх Маназил ас-Са’ирин / под ред. Хамида Раббани. Тегеран, 1354 г. с.х. / 1975-1976 г. н.э.; Он же. Латаиф ал-А’лам фи Ишарат Ахл ал-Илхам / под ред. Саида Абд ал-Фатиха. Каир, 1416 г. х. / 1996 г. н.э.
- ‘Аттар Нишапури Ф. Гузида-и «Тазкират ал-Аулийа» (Избранное из «Поминания друзей Божьих») / под ред. Мухаммада Исти‘лами. Тегеран, 1352 г. с.х. / 1973-1974 г. н.э.
- ‘Ала ад-Даула Симнани А. Чихил маджлис (Сорок собраний) / под ред. Наджиба Маила Харави. Тегеран, 1366 г. с.х. / 1987-1988 г. н.э.; Он же. Мусаннафат-и Фарси (Произведения на персидском) / под ред. Наджиба Маила Харави. Тегеран, 1369 г. с.х. / 1990-1991 г. н.э.
- Газзали М. Ахйа’ ‘Улум ад-Дин. Бейрут: Дар ал-Калам.; Он же. Кимийа-йи са‘адат (Эликсир счастья) / под ред. Манучехра Данеш Пужуха. Тегеран, 1381 г. с.х. / 2002-2003 г. н.э.
- Священный Коран.
- Кушайри ‘А. Ар-Рисалат ал-Кушайрийя / под ред. Ма‘руфа Зарика и ‘Али ‘Абд ал-Хамида Балтаджи. Бейрут, 1408 г. х. / 1988 г. н.э.
- Калабади М. Ат-Та‘аруф ли-Мазхаб Ахл ат-Тасаввуф / под ред. ‘Абд ал-Халима Мухаммада и Тахи ‘Абд ал-Баки Масрура. Бейрут, 1400 г. х. / 1979-1980 г. н.э.
- Маджид ад-дин Багдади М. Тухфат ал-Барарат фи Масаил ал-’Ушра / пер. с араб. на перс. Мухаммада Бакира Са‘иди Хурасани; под ред. Хусайна Хайдархани Муштак‘али. Тегеран, 1368 г. с.х. / 1989 г. х.
- Ибн Мунаввар М. Асрар ат-Таухид / под ред. Мухаммада Резы Шафи‘и Кадкани. Тегеран, 1366 г. с.х. / 1987-1988 г. н.э.
- Наджм ад-дин Рази ‘А. Рисала-и ‘Ишк-у ‘Акл (Ми‘йар ас-Сидк фи Мисдак ал-‘Ишк) / под ред. Таки Тафаззули. Тегеран, 1345 г. с.х.; Он же. Мирсад ал-‘Ибад / под ред. Мухаммада Амина Рийахи. Тегеран, 1352 г. с.х.
- Наджм ад-дин Кубра А. Рисалат ила ал-Хаим ал-Хаиф мин Лаумат ал-Лаим / под ред. Тауфика Хашимпура Субхани. Тегеран, 1364 г. с.х. / 1985-1986 г. н.э.; Он же. Рисалат мин ас-Саир ал-Хаир ал-Ваджид ила ас-Сати ал-Вахид ал-Маджид // Ду рисала-и ‘ирфани (Два суфийских послания) / под ред. Хусейна Бадр ад-дина. Тегеран, 1362 г. с.х. / 1983-1984 г. н.э.
- Нахшаби З. Силк ас-Сулук / под ред. Гулам’али Арйа. Тегеран, 1369 г. с.х. / 1990-1991 г. н.э.
- Насафи ‘А. Ал-Инсан ал-Камил (Совершенный человек) / под ред. Марижан Моле. Тегеран, 1377 г. с.х. / 1998-1999 г. н.э.; Он же. Зубдат ал-Хакаик / под ред. Хакверди Насири. Тегеран, 1381 г. с.х. / 2002-2003 г. н.э.
- Нвия П. Тафсир-и Кур’ан ва забан-и ‘ирфани (Exégèse coranique et langage mystique) / пер. с фр. на перс. Исма‘ила Са‘ дата. Тегеран, 1373 г. с.х. / 1994-1995 г. н.э.
- Худжвири ‘А. Кашф ал-Махджуб / под ред. В. Жуковского. Тегеран, 1358 г. с.х. / 1979 г. н.э.
На европейских языках:
- Arberry A. J. Sufism: An Account of the Mystics of Islam. London, 1950.
- Karamustafa A. T. Sufism: The Formative Period. Edinburgh, 2007.
- Lane E. W. An Arabic-English Lexicon. New Delhi, 2003.
- M. The Way of the Mystics: The Early Christian Mystics and The Rise of the Sufis. London, 1976.
- Spencer S. Mysticism in World Religion. Middlesex, 1963.
- Trimingham J. S., The Sufi Orders. Oxgord; et al., 1973.
Ансийа Шайх Суфла