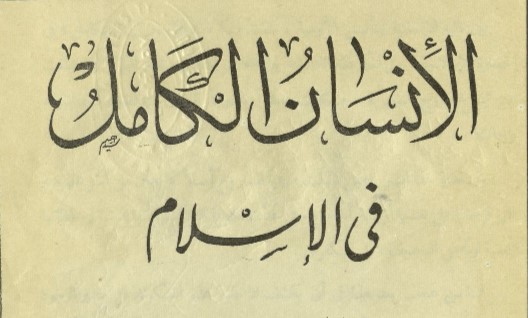Совершенный человек – одно из важнейших понятий в онтологии и антропологии мусульманского мистицизма, а также в концепциях имамата и близости к Богу (вилайат) в иснаʻашаритском и исмаилитском шиизме. На протяжении многовековой истории мусульманской мысли это понятие осмыслялось по-разному и становилось центром различных теоретических построений, в связи с чем не представляется возможным сформулировать единое, исчерпывающее определение. Тем не менее, изучение всей совокупности различных точек зрения, представленных в литературе мусульманского мистицизма, позволяет сделать следующее обобщение: совершенный человек – это человек, воплощающий в себе нравственный идеал; он является конечной целью творения, причиной создания и существования мира; ему ведомо величайшее имя Бога, он служит посредником между Богом и людьми, является неоспоримым наместником Бога, он в совершенстве постиг религиозный закон, суфийский путь и истинное знание; можно сказать, что он представляет собой совершенное воплощение благих слов, благих деяний и благих нравственных качеств. Благодаря своим внутренним качествам и их внешним проявлениям он служит предводителем и вожатым для человечества, ему ведомы духовные недуги людей, и он способен их исцелить. Он – творение Божье, но лишь подобен божеству. Те божественные атрибуты и нравственные качества, которыми он наделен, делают его наместником Божественной сущности; он сумел достичь столь высокого положения, поскольку лишен двойственности и сущностно един с возвышенной Божественной оностью (хувиййа)[1].
Представления о совершенном человеке в мусульманском мистицизме сформировались в рамках ислама[2], однако нельзя не отметить их сходства с гностическими. В гностицизме и в древних религиозных учениях представлены сходные, родственные мусульманским концепты. Это концепции первочеловека в маздакизме, первоначального человека (Адам Кадмон) в Каббале и предвечного человека в манихействе[3].
Представление о богоподобном человеке было знакомо также иудаизму и христианству, о чем свидетельствует сообщение о сотворении человека по образу и подобию Божьему в Ветхом Завете[4], а также идея о непорочности пророков, например, Ноя[5]. Подобные взгляды можно встретить и в средневековых христианских философских сочинениях. Таким образом, совершенный человек – тот, кто достиг совершенства и уподобился Богу; он противопоставлен человеку несовершенному, лишенному подобного сходства[6].
Представление о первочеловеке в иранском мистицизме также сходно с понятием о совершенном человеке мистицизма мусульманского. Первочеловек, которым обычно называют Кайумарса[7], считается сыном Божиим, дух которого является частицей духа Божьего[8]. Шедер полагает, что представления о совершенном человеке в исламе сформировались не без влияния хронологически предшествовавших им идей иранского мистицизма. Рассматривая маздаяснийскую идею о первочеловеке, Шедер приходит к выводу о несомненной преемственности между этой идеей и концепцией совершенного человека в мусульманском мистицизме: согласно Бундахишну, первочеловек (Кайумарс) является образцом человечности, на него возложена ответственность за состояние дел в этом мире[9]. Кроме того, зороастризм наделяет Заратуштру некоторыми качествами, которые в мусульманском мистицизме приписываются совершенному человеку[10].
В манихействе первочеловек также упоминается как «существовавший в предвечности», человек, состоящий из «креста света», ему приписывается совершенство[11]. Манихейские тексты из Турфана позволяют заключить, что сам Мани также служил объектом поклонения и воспринимался божественная сущность, наделенная совершенством и дарующая спасение[12].
Как бы то ни было, иранские и греческие гностические учения, очевидно, до некоторой степени оказали влияние на формирование представлений о совершенном человеке в мусульманском мистицизме. Однако ученые не пришли к единому мнению относительно того, каким образом представления о первочеловеке в манихействе, о божественной благодати (хварена) в зороастризме и представления греческих мыслителей о Слове (Логос) и Уме (Нус) проникли в учение мусульманского мистицизма. Тор Андре полагает, что развитие идеи о совершенном человеке в исламской мысли так или иначе связано с шиитскими представлениями об имамате. Он считает, что именно шиизм с его концептами вилайата и имамата был тем каналом, по которому в исламскую мысль проникали идеи гностических учений; и именно так понятие «совершенный человек» проникло в мусульманский мистицизм[13]. По мнению Андре, вера людей древности в «истинного пророка» послужила основой для развития идеи о совершенном человеке в исламе – согласно этим верованиям, истинный пророк обладает бытием в предвечности, и его духовная сущность передается по цепочке от пророка к пророку[14].
Однако некоторые исследователи полагают, что гностическое учение об Антропосе проникло в мусульманский мир через перевод «Теологии Аристотеля» [15]. В «Теологии Аристотеля» говорится о двух видах человека: человеке рассудочном и человеке чувственном. Чувственный человек – лишь подобие первоистинного человека, малая толика существа которого вверена ему на время. Первоистинный же человек подобен сияющему свету, в котором все человеческие состояния представлены в своей полноте и совершенстве [16]. Тем не менее, некоторые современные исследователи, не отрицая влияние Античности на мусульманский мистицизм, всё же полагают, что представление о совершенном человеке в суфизме имеет семитские корни, и в Коране можно обнаружить его следы, связанные с такими концепциями, как имамат и учение о Махди, и с идеями, встречающимися в приписываемом ʻАли б. Абу Талибу сочинении «Проповедь “Изложение”» (Хутбат ал-байан)[17].
Само выражение «совершенный человек» в Коране отсутствует; не говорится о нем и в мусульманских документах первого века хиджры. Однако следует знать, что предпосылки для развития этой концепции можно обнаружить и в Коране, и в толковании некоторых айатов, и в некоторых хадисах кудси. В Коране прямо сказано, что в человеке присутствует божественное (Коран 15:29, 32:9, 38:72), что ему вверен залог ответственности перед Богом, ему доверено положение наместника Бога на земле (Коран 33:72), и ему Богом дарован почет (Коран 17:70). Кроме того, день и ночь, дождь и растения созданы ради него, и все прочие творения подчинены ему (Коран 78:8–15).
В Сунне – как в хадисах кудси, так и в пророческих, – мы видим сообщения, во-первых, утверждающие, что Господь создал небеса (мир) ради человека (согласно другому толкованию, конкретно для пророка Мухаммада): «Если бы не ты, Я не создал бы небеса», а во-вторых – указывающие на то, что пророк Мухаммад был создан в предвечности: «Я был пророком, а Адам еще был водой и глиной» [18]. В толкованиях коранических айатов, предложенных сподвижниками и последователями (табиʻун) пророка Мухаммада, можно найти зачатки представлений о совершенном человеке в мусульманском мистицизме – разумеется, в применении к Мухаммаду. Идея о нур-и Мухаммад («свете Мухаммада»), легшая в основу концепции пророка Мухаммада, человеческого идеала, как совершенного человека в мусульманском мистицизме, восходит к толкованию, предложенному Ибн ʻАббасом для слова ал-джабал в контексте айата [7:143] («…Но посмотри на гору…»): Ибн ʻАббас предложил понимать этот пассаж как «но посмотри на свет Мухаммада» (ʻАйн ал-кузат, 263–264). Идея о «свете Мухаммада» встречается также в толкованиях Мукатила б. Сулаймана (ум. 150/767) на айат 35 суры «Свет» (24)[19]. Подобные толкования коранических айатов говорят о том, что уже в первые века ислама идея о совершенном человеке пользовалась вниманием комментаторов Корана, отмечавших коранические указания на пророка Мухаммада как на идеального человека. Затем эти представления соединились со взглядами на пророчество в исламе и с шиитской идеей об имамате и получили широкое распространение. Впервые термин «совершенный человек» (ал-инсан ал-камил) употребил в своих сочинениях Мухйи ад-Дин Ибн ʻАраби в конце VI / XII вв.[20], однако в контексте сочинений по этике, направленных на развитие добродетельной личности, этот оборот использовался мусульманскими мыслителями задолго до Ибн ʻАраби. К примеру, пятая глава сочинения «Разъяснение о двух видах воспитания» (Тафсил ан-наш’атайн) Рагиба Исфахани носит название «О формировании человека шаг за шагом, покуда он не станет совершенным человеком»[21]. Кроме того, некоторые отрывочные рассуждения о совершенном человеке, пусть и в иных формулировках, можно встретить у мусульманских мистиков начиная с первой половины III–IX вв. Байазид Бистами, развивая мистическую идею духовного авторитета (вилайат), обозначает приближенного к Богу мистика (вали), постигшего сущность одного из таких имен Бога, как Первый и Последний, Внешний и Внутренний, выражением «полностью совершенный» (камил тамм)[22]. В конце III / на рубеже IX–X вв. Хусайн б. Мансур Халладж рассуждал о совершенном человеке как применительно к личности Пророка, так и применительно к человеку и миру. Передают, что он разделял веру в «богочеловека» или «бога в человеческом образе», и его понимание слова «будь» (ар. кун), которым было осуществлено сотворение мира, согласуется с понятием Логоса у гностиков[23]. Комментируя выражение «великого нрава» (Коран 68:4), Халладж говорит: нрав Мухаммада назван «великим» потому, что Пророк не удовольствовался этическими нормами людей и даже божественными свойствами, но проник в саму сущность Истинного и растворился в ней, утратив собственную сущность [24]. Кроме того, комментируя 35-й айат 24-й суры, «Свет», Халладж признает бытие Мухаммада в предвечности, сообщая, что не знает света ярче и древнее, чем свет Мухаммада, бытие которого предшествовало небытию Вселенной [25]. С другой стороны, Халладж разделял веру в единство и воплощенность соединения (ʻайн ал-джамʻ) и считал, что человек посредством телесной и духовной аскезы способен достичь такого уровня развития, на котором в него нисходит Божественный дух, делая все окружающее подвластным ему и приравнивая его веления к велениям Господа [26].
Ниффари в «Стоянках и беседах» (ал-Мавакиф ва-л-мухатабат) приводит подробное описание человека, способного стать наперсником Божиим. Согласно Ниффари, в наперснике Божием заключаются дух и смысл тварного мира, поскольку Господь, наделив его Своими свойствами, даровал ему силу править миром от лица Господа, чтобы он, с одной стороны, был непосредственно связан с Господом, а с другой – действовал в тварном мире и придавал ему смысл, используя свои божественные свойства [27]. Представления Ниффари о наперснике Божием в точности соответствуют идее Ибн ʻАраби о совершенном человеке; именно это позволило ʻАфиф ад-Дину ат-Тилимсани объяснить концепцию Ниффари через понятие «совершенный человек» [28].
Таким образом, в мусульманском мистицизме еще до Ибн ʻАраби обсуждались концепты пророчества и идеального человека, он же в конце VI/XII – начале VII/XIII вв. развил их и сделал неотъемлемой частью представлений мусульманского мистицизма о мире и человеке, закрепил их за ролями пророка (наби) и друга Божия (вали), связал представление о наместнике Бога на земле с ролью совершенного человека и сделал эту идею одним из главных столпов своего учения о единстве бытия (вахдат ал-вуджуд). По мнению Ибн ʻАраби, важнейшим и величайшим проявлением божественности стало сотворение первого человека, а это – никто иной как Адам, Божественное слово, Совершенный человек [29]. Прибегая к аллегории, Ибн ʻАраби уподобляет первого сотворенного тугре, которая следует за бисмиллой. Таким образом Ибн ʻАраби указывает на то, что совершенный человек был первой созданной сущностью[30]. Этот человек, разумеется, служит вместилищем божественных истин и истин тварного мира; он вмещает в себя все сущее, и его, таким образом, можно назвать «всеобъемлющим бытием» и «всеобъемлющим словом»[31].
Господь создал мир по своему подобию, однако этот мир был лишен духа и жизни и, подобно покрытому патиной неотполированному медному зеркалу, не мог отразить проявления имен Бога. По этой причине Господь произвел из Себя еще одну форму, обладающую душой и жизнью, – совершенного человека, – и в качестве Своих глаз, Своей сущности поместил его, словно душу, в безжизненный мир, чтобы созерцать в нем Свои проявления. Поэтому совершенного человека называют также «человеком-оком» или «оком Бога» (ʻайн Аллах), и Господь взирает на мир его глазами[32].
Совершенный человек был сотворен во всей полноте, Господь создал его своими «руками», произнеся: «Будь!» [33]. Ни одно творение не наделено таким совершенством, как он, он украшает этот мир, как драгоценный камень украшает перстень и придает смысл его существованию. Господь наделил этот драгоценный камень – совершенного человека – всеми Своими именами [34]. Ибн ʻАраби и его последователи считают все сотворенное манифестациями Божественных имен и полагают, что каждое из имен Господа необходимо должно было проявить себя в том или ином явлении тварного мира; следовательно, все явления и объекты тварного мира возникли из Божественных имен и являются манифестациями того или иного имени Истинного [25]. И только совершенный человек является совершенной манифестацией, в которой соединены все Божественные имена; он как проявление Божественного возник под действием Величайшего имени Аллаха, а поскольку оно объединяет в себе все остальные имена и является атрибутом Господа, то и совершенный человек служит манифестацией, проявлением всех имен и атрибутов Господа [26]. Иными словами, совершенный человек служит манифестацией айата «Он – первый и последний, явный и тайный…» (Коран 57:3). Он – первая цель творения, сотворенный последним действием Божиим, его словесное выражение явно, а внутренний смысл – таен. Таким образом, совершенный человек обладает знанием обо всех именах, и его называют «вместилищем всех слов» [27].
Также Ибн ʻАраби уподобляет тварный мир книге, а творения – словам этой книги. Эти слова являются ничем иным как манифестациями Божественных имен, и их общность составляет «Мать Книги»: «…у Него – мать книги» (Коран 13:39). Совершенный же человек как проявление всеобъемлющего слова «Аллах» является словом, заключающим в себе весь смысл этой книги [28]. Именно на этом основании некоторые суфии уподобляли совершенного человека бисмилле, ведь совершенный человек вмещает в себя все имена Божьи и все предметы и явления тварного мира подобно тому, как бисмилла и по форме, и по внутреннему смыслу вмещает в себя все содержание небесных книг [29].
Совершенный человек произошел от собственного бытия, он находится в том же отношении к Богу, в котором волна относится к морю, он причастен к эманации сущностной единичности Истинного и в той же мере наделен сущностными истинами, сопричастен истинной сущности Милостивого (нафас-и рахмани), и в отношении него справедлив айат Корана 8:17 «…И не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил…» [30]. Тем не менее, Совершенный человек лишь подобен Богу, но Богом не является. Он несет в себе все божественные тайны [31] и все Божественные имена и атрибуты, ему ведомы свойства Величайшего имени Бога, однако одна из букв этого имени остается от него сокрытой, и один из атрибутов – Безначальный – ему не свойственен [32]. По этой причине Ибн ʻАраби называет его человеком, возникшим в предвечности и существующим в бесконечности [33]. Однако этот человек по своему достоинству и положению превосходит весь остальной мир. Когда его именуют «малым миром» (ал-ʻалам ас-сагир, микрокосм), а мир – «большим человеком» (ал-инсан ал-кабир, макрочеловек) [34], имеется в виду не то, что в сравнении с миром человек мал и является его сокращенной версией, а то, что мир подобен книге, заключающей в себе все Божественные имена, однако напоминающей безжизненное тело; он обретает жизнь и смысл только благодаря совершенному человеку, также подобному книге, которая содержит имена Истинного. Таким образом, мир нуждается в совершенном человеке, в то время как совершенный человек не имеет потребности в мире. Соответственно, человек мал, а мир велик только в том, что касается формы; по внутреннему же содержанию человек является большим миром, а мир – малым человеком [35].
Ангелы, хотя и приближены к Божественному престолу, лишены, однако, близости, даруемой за исполнение рекомендуемых деяний (курб-и навафил), и по этой причине стоят ниже совершенного человека, он же исполняет роль их наставника [36]. Совершенный человек подобен колонне, поддерживающей тварный мир. Как дом или шатер не стоит без опоры, также и мир не держится без совершенного человека [37]. Он – и причина создания мира, и причина его существования в веках; он – граница и посредник между Богом и творениями, он занимает промежуточное положение между необходимо сущим и возможно сущим; благодаря совершенству своего бытия он находится в точке равновесия. Благодаря своей божественной стороне он является получателем божественных даров и вспомоществования, а благодаря своей человеческой стороне он имеет возможность довести их до сотворенных; таким образом поддерживая равновесие, он реализует в мире божественный принцип единства и справедливости [38].
Роль и место совершенного человека в мире подобны роли и месту сердца в человеческом организме. Подобно тому как жизнь, развитие и движение органов тела зависит от работы сердца, также и жизнь и движение людей и всех существ в этом мире зависят от совершенного человека [39]. Покуда в мире находится совершенный человек, существованию этого мира ничто не угрожает, и на него направлено божественное вспомоществование. Если же совершенный человек покинет этот мир и никто не придет ему на смену, мир лишится помощи и даров Божиих, и его существование окажется под угрозой [40].
Поскольку совершенный человек создан по образу и подобию Божию и является вместилищем сути всех Божественных имен [41], и поскольку что-либо может быть познано лишь самим собой или чем-либо ему подобным, то и способность к познанию совершенного человека является исчерпывающей, он обладает совершенным общим и частным знанием [42]. Совершенный человек служит основой и опорой познания. Во-первых, объединяя в себе имена и атрибуты Истинного, он обладает исчерпывающим и всесторонним знанием об Истинном, что позволяет ему верно и в полной мере восхвалять Бога и поклоняться ему [43]. Во-вторых, поскольку через Совершенного человека Бог являет Свои имена и атрибуты этому миру и видит Свои проявления в этом мире его глазами, совершенный человек, подобно зеркалу, является инструментом самопознания Бога [44]. Таким образом, всякий познавший совершенного человека познает и Бога [45]. Однако познать совершенного человека – нелегкая задача. Когда он был создан, ангелам было неведомо его истинное достоинство [46], и многие люди также не знают его истинной ценности; его способен познать лишь верующий, обладающий качествами божественного имени ал-Му’мин [47].
Ибн ʻАраби и его последователи понимают под божьим залогом (Коран 33:72) наместничество совершенного человека [48]. Наместничество совершенного человека основано на справедливости и служит сохранению этого мира, поскольку все, что он говорит, внушено Господом, и все, что он делает, он делает по воле Господа [49]; именно поэтому его называют также зилл Аллах, ведь он подобен тени Господа, простирающейся над миром [50].
Идея о совершенном человеке в мусульманском мистицизме тесно связана с вопросом близости к Богу (вилайа), а в шиитском мистицизме – с представлениями об имамате [51]; совершенный человек уподобляется также тени Бога (зилл Аллах); Бог является вечно сущим, следовательно, и тень его должна реально или потенциально непрестанно присутствовать в мире [52]. В этой связи представляется естественным, что совершенный человек сменяет облик и является под видом пророка, друга Божьего (вали), имама, кутба, шейха и т.п. Однако идея о смене совершенным человеком облика влечет за собой следующий вопрос: является ли совершенство совершенного человека его природным качеством, заложенным в него при сотворении, или же это качество является приобретаемым и может быть обретено благодаря подвижническим усилиям и самоочищению? Из сочинений Ибн ʻАраби и его последователей, а также из работ, содержащих изложение его взглядов, можно сделать вывод, что обретение атрибута совершенства, благодаря которому тот или иной человек достигает положения совершенного человека, заложено в его природе, однако актуализируется благодаря подвижническим усилиям и самоочищению. Так, если путник, следующий по пути самосовершенствования, наделен Божественными качествами и душевными свойствами, и если он, по выражению суфиев, совершит «восхождение», одну за одной преодолеет стоянки на мистическом пути и достигнет высшей ступени (джамʻ ал-джамʻ), то двойственность покинет его, и капля его человеческой сущности растворится в море единения с Истинным, и он актуализирует себя в роли совершенного человека [53]. На этом основании суфии полагали, что мистик, достигший стоянки уничтожения в Боге и сущностного единения, обретал связь с совершеннейшим совершенным человеком, то есть пророком Мухаммадом. К примеру, сообщается: Шибли достиг подобного состояния, и истинная сущность совершенного человека проявилась на его челе; ʻАбд ал-Карим Джилани узрел в лице своего наставника, Шараф ад-Дина Исмаʻила Джабарти, сущность Мухаммада [54].
Совершенный человек в каждую эпоху является в этот мир в новом обличье, однако все его обличья с самого начала творения являются манифестациями одного и того же единого феномена [55], и это феномен наделен одновременно атрибутами извечности и новизны: его истинная сущность извечна, в то время как его внешняя форма нова; по этой причине совершенного человека называют извечно новым [56]. Истинная сущность совершенного человека, собравшая в себе достойные возвеличения атрибуты, называется Мухаммадовой сущностью; она является первым творением или «первым разделением» (таʻаййун ал-аввал), она – начальный этап появления мира, и в ней выделена сущность единичности [57]. Эта истинная сущность внеположна времени и пространству, ее называют еще Перворазумом или Величайшим светом, а также Высочайшим каламом, творением Бога; это метафизическая сущность, распространившаяся посредством всех сущностей этого мира [58].
Ибн ʻАраби считает Мухаммадову сущность аналогом Слова; каждую из 27 частей своего сочинения «Геммы мудрости» (ал-Фусус ал-хикам) он посвятил одной из его манифестаций. Таким образом, Мухаммадова сущность – то же, что Слово, создавшее мир, – «Будь!» – которым Господь выделил частные сущности (калимат Аллах). Согласно такому представлению, Мухаммадова сущность сходна с представлением о Слове Божием в христианском богословии, которое, как и Мухаммадова сущность, является источником тайного знания и причиной возникновения мира [59], при помощи сущности Слова были созданы все творения [60].
Стоит отметить, что представления о Слове как о могущественном, богоподобном создании были с давних пор распространены в мусульманском мире. Муʻтазилиты-хабититы полагали, что существует два Бога: извечный и созданный. Согласно их представлениям, извечным Богом был Аллах, а созданным – божественное Слово, сотворенное извечным Богом [61].
Ибн ʻАраби выделяет несколько степеней совершенства: совершеннейший человек (пророк Мухаммад), совершенный человек (к таковым он причисляет пророков), совершенный наместник (таковыми являются наследники пророков). Прочие люди, не попадающие в категорию совершенных, являются неполноценными, людьми-животными [62]. Ибн ʻАраби и большинство суфиев, принимавших его взгляды, истинно совершенным человеком считают лишь пророка Мухаммада, а всех пророков, друзей божиих (аулийа), полюсов (ед. ч. кутб) и суфийских наставников рассматривают как его наследников [63]. И хотя Адам был первым наместником Божиим, и ему были ведомы все имена, однако, поскольку Мухаммаду открыта вся «совокупность слов», а имена входят в множество слов, Адам также должен считаться наместником Мухаммада; он относится к Мухаммаду как совершенный к совершеннейшему, как совершенство к наивысшему совершенству [64].
Таким образом, поскольку истинная сущность Мухаммада едина и единственна, все совершенные люди, начиная с Адама, несмотря на все различия между ними, обрели совершенство посредством соединения с этой единой истинной сущностью; в действительности все они являлись единой сущностью, средоточием и квинтэссенцией которой является сущность Печати пророков, Мухаммада [65]. Совершенный человек конечен только в своих внешних проявлениях; по внутренней сути он является первым из совершенных, он предшествует всем совершенным людям, как пророкам, так и друзьям Божиим [66]. Все люди, обладавшие совершенством, включая Адама, первого наместника Божия, были сотворены по образу Мухаммада [67].
Как уже было сказано, совершенный человек подобен говорящей душе (нафс натика) или же сердцу «большого человека» (мира). Подобно тому как человек не может жить без говорящей души, так же и мир не способен быть макрочеловеком без совершенного человека. А поскольку истинный совершенный человек – это пророк Мухаммад, то и существование и развитие этого мира целиком зависит от него. До появления истинной сущности Мухаммада этот мир был лишь безжизненным телом, а после смерти Мухаммада погрузился в сон – до тех пор, пока в День восстания из мертвых Мухаммад не будет воскрешен [68]. В другом месте Ибн ʻАраби внес следующее дополнение по вопросу об отсутствии совершенного человека в мире, то есть о смерти пророка Мухаммада: поскольку Коран можно считать созданием Мухаммада, то после смерти пророка Коран может занять его место, ведь обращаться к Корану – то же, что обращаться к Мухаммаду. Коран – это слово Бога и Его атрибут, и все существо Мухаммада также является атрибутом Истинного. Таким образом, можно заключить, что после смерти пророка совершенный человек не покинул этот мир [69].
Ибн ʻАраби полагал, что говорить о совершенном человеке невозможно без рассмотрения вопроса о близости к Богу (вилайат); он и его последователи считали, что совершенство совершенного человека находит продолжение в суфийских «полюсах» (ед. ч. кутб) и мужах, способных проникнуть в мир скрытого [70]. В шиитском мистицизме считается, что после смерти истинного совершенного человека – пророка Мухаммада – мухаммадов свет, или его истинная сущность, перешла к представителям его рода, и двенадцать шиитских имамов воспринимаются как совершенные люди, наделенные этой сущностью; двенадцатый имам, Махди, ушедший в сокрытие, рассматривается как последний из ряда духовно приближенных к Мухаммаду. Суфийские же наставники и «полюсы» считаются манифестациями совершенного человека не благодаря их происхождению, но благодаря связи с последним из духовно близких Мухаммаду [71]. Исмаилиты также полагают, что сущностью совершенного человека наделена такая совершенная личность, как имам [72]. Все это говорит об особом значении представлений о совершенном человеке для мусульманского богословия, мистицизма и эзотерических течений, согласно которым вереница совершенных, словно непрерывная нить, соединяет предвечность с бесконечностью [73].
Высказывания Ибн ʻАраби о совершенном человеке, зафиксированные в его сочинениях, получали различные истолкования в работах его последователей. Сам Ибн ʻАраби в сочинении «Древо бытия» [74] уподобил человека-наместника – Мухаммада – мировому древу, а в трактате «Суфийские выражения» (Истилахат ас-суфийа) напрямую называет древо эквивалентом совершенного человека [75]. Также суфии употребляли для совершенного человека такие названия, как «зрачок» (инсан ал-ʻайн), «око Истинного» (басар ал-хакк), «око мира» (ʻайн ал-ʻалам). Поскольку Господь благодаря совершенному человеку устремил свое внимание на людей, даровал им, пребывавшим в небытии, бытие, и взирает на мир и Свои создания глазами совершенного человека, тот может быть назван оком Божиим [76]. Среди других имен совершенного человека – «Разделяющее слово», поскольку он стоит на границе той ступени творения, на которой возникает множественность сущностей [77]. Также для описания совершенного человека используются такие выражения, как «всеохватное бытие» (каун-и джамиʻ) и «истинный критерий» (мизан-и хакики), поскольку он обладает верным знанием об истинах, связанных и с божественностью, и с тварным миром, и о явлениях, как умозрительных, так и объективных; он соединяет в себе совершенства и проявления божественного и тварного миров [78]. Поскольку совершенному человеку открыто знание и о божественном, и о тварном мире, его также именуют «зеркалом двух чертогов», а поскольку в нем нашли проявление Божественная сущность и все Его имена, его называют «зеркалом Божественного чертога» [79]. Еще одно имя совершенного человека – «язык Истинного» [80].
Ибн Сабʻин использовал термин «обретший истину» (мухаккик) для обозначения понятия, близкого по значению к понятию «совершенный человек». Под «обретшим истину» подразумевался человек, созданный в Предвечности, телесность которого сотворена, а духовная составляющая – вечна. В то время как совершенный человек Ибн ʻАраби – душа и хранитель этого мира, «обретший истину» Ибн Сабʻина – «благодетель мира» [81].
На протяжении приблизительно 200 лет представления Ибн ʻАраби о совершенном человеке распространялись комментаторами его произведений, пока в VIII/XIV в. ʻАбд ал-Карим Джилани не изложил их в систематизированном виде в своем трактате «Совершенный человек». Кроме того, он изложил взгляды, связанные с совершенным человеком, в касыде, известной под названием «Прозрения из мира скрытого о диковинках мира явного» [82]. Джилани считает совершенного человека совершенной манифестацией Аллаха, при этом, однако, внеположной Ему и чувственно воспринимаемой; совершенство же считает приобретенным, а не присущим ему от природы качеством. По его мнению, человек, совершивший духовное восхождение и в результате обретший сущностное единство, способен стать совершенным человеком. Подобно тому как в процессе нисхождения Истины выделяется три этапа: единичность (ахадийат), «онность» (хувийат) и «яйность» (анийат) [83], так же и восхождение человека включает три этапа. На первом этапе человек достигает уровня, на котором он становится объектом эманации (таджалли) имен Истинного. В ходе этой эманации человек впитывает свет Божественных имен и оказывается повержен их светом. На этом этапе человек должен удержаться столько, чтобы дождаться эманации имени «Аллах», и тогда Господь заберет у него имя «раб» и закрепит за ним имя «Аллах» [84]. На втором этапе Истинный являет Себя человеку, эманируя через атрибуты, так что сущность человека впитывает и обретает эти атрибуты; его душа уничтожается, а его свойствами становятся сами божественные атрибуты [85]. Благодаря эманации атрибутов человек становится богоподобным, наделенным Его атрибутами. На третьем этапе происходит эманация Сущности. Человек обретает единство с Истинным и достигает конца духовного восхождения, «завершающей стоянки». Выше этой стоянки человек не способен подняться, за ней – только стоянка Божественного величия, доступная лишь самому Истинному [86].
Влияние мистической антропологии Ибн ʻАраби и его представлений о совершенном человеке c конца VII/XIII в. заметно и на востоке, и на западе исламского мира, и большинство суфиев не только восприняли концепцию совершенного человека, но и сам этот термин [87]. Однако, судя по всему, на востоке исламского мира, в Хорасане, были мистики, знакомые с дискуссиями вокруг этой идеи, но избегавшие употребления термина «совершенный человек», которое подразумевало бы принятие всей концепции Ибн ʻАраби о единстве бытия. К примеру, Джалал ад-Дин Руми, излагая свои представления о пути человека к совершенству, использовал иные выражения. Существовали также суфии, употреблявшие этот термин, однако при этом их взгляды были схожи не столько с учением Ибн ʻАраби, сколько с идеями восточно-мусульманской – возможно, иранской, – философии (хикма). Среди них можно назвать ʻАзиз ад-Дина Насафи, который, несомненно, был знаком со взглядами Ибн ʻАраби и, по всей видимости, усвоил их через речи своего наставника, Саʻд ад-Дина Хамави. В своих сочинениях Насафи лишь раз упоминает имя Ибн ʻАраби – когда сообщает, что вместо его термина «утвержденные воплощенности» предпочитает выражение «утвержденные сущности» [88]. В контексте рассуждений о совершенном человеке Насафи не использует терминологию Ибн ʻАраби и авторов, излагавших его взгляды, и не поднимает вопросы, которые затрагиваются в их сочинениях. Также Насафи не пишет об истинной сущности Мухаммада – понятии, лежащем в основе учения о совершенном человеке Ибн ʻАраби и его последователей.
Согласно Насафи, человек может быть совершенным либо неполноценным. Совершенным является человек, в полной мере освоивший религиозный закон, суфийский путь и истинное знание; другими словами, тот, кому в полной мере свойственны благие слова, благие дела, благие моральные качества и глубокие познания [89]. Как можно заметить, Насафи в своем определении совершенного человека использует формулировки, характерные для древней иранской мысли. Имена, которыми он наделяет совершенного человека, также не имеют ничего общего с именами, встречающимися у Ибн ʻАраби и передатчиков его идей. В именованиях, предложенных Насафи, можно обнаружить следы влияния иранской мысли: «вождь», «знающий», «волшебная чаша», «волшебное зеркало», «великое противоядие», «величайший эликсир», «Хизр», «владыка эпохи» и т.п. [90].
Согласно Насафи, обретение статуса совершенного человека – высшая цель следующих по мистическому пути [91]; он не поднимает вопрос о приобретенности или врожденности этой способности, как это делал Ибн ʻАраби. При этом Насафи полагает, что в этом мире совершенный человек подобен сердцу. Подобно тому как человеку необходимо сердце, в мире должен находиться совершенный человек, и после его смерти ему на смену приходит другой человек, также наделенный благими мыслями, делами и нравом [92]. Совершенный человек направляет свои усилия на то, чтобы познакомить людей с благим законом и истребить в мире зло и неправедность [93]. Тем не менее, по Насафи, совершенный человек не наделен могуществом в этом мире и не всегда достигает желанной цели. Он обладает совершенным знанием, однако лишен власти и не во всем способен преуспеть [94]. Разумеется, случается, что совершенный человек оказывается правителем и получает власть, однако слабость его превосходит его могущество [95].
При сопоставлении учений Ибн ʻАраби и Насафи о совершенном человеке становится ясно, что Насафи не считает способность человека достичь совершенства зависящей от какой-либо сверхчувственной силы, например, от истинной сущности Мухаммада. Он причисляет духовно близких к Богу (вали) и пророков к совершенным людям, однако считает совершенным также любого человека, в полной мере освоившего религиозный закон, суфийский путь и истинное знание и обладающего глубокими познаниями, и даже имплицитно причисляет себя к этой когорте [96]. Таким образом, по Насафи, совершенный человек, не являющийся пророком – это житель суфийской обители, суфийский наставник, который, следуя путем духовного самосовершенствования, достиг полноты знаний в области религиозного закона, суфийского пути и истинного знания. Однако когда этот совершенный человек понимает, что в этом мире человек несвободен и несчастен, он отрекается от мира, избирает уединенный образ жизни, довольство малым и безвестность, и таким образом обретает свободу и получает имя свободного совершенного человека [97].
Насафи обращается и к другому аспекту проблемы совершенного человека. Согласно ему, сущность бытийной единичности едина и имеет внешнюю и внутреннюю сторону; ее нутро – это единый свет, Мировая душа, давшая начало всему, что есть в этом мире. Внешняя его сторона – это эманация того же света. Единое существо Истинного породило тварный мир через излучение этого света, и он подобен зеркалу, манифестации этого существа, в котором появилась множественность. Все сотворенное в целом – манифестация и зеркало этого света, однако именно человек наделен способностью служить совершенной манифестацией, для этого света он – словно волшебные чаша или зеркало, и он – высшая цель творения [98]. Здесь также наблюдается несоответствие между представлениями Насафи с одной стороны и Ибн ʻАраби и его передатчиков с другой; Насафи, скорее, демонстрирует связь с таким иранским течением мысли, как световая философия озарения, хотя сам он относит эти взгляды к материалистическим [99].
Что касается Джалал ад-Дина Руми, то он, несомненно, был знаком с дискуссией вокруг концепции совершенного человека Ибн ʻАраби. Его представления о «Всеобщем разуме» (ʻакл-и кулл) [100] сходны с концепцией истинной сущности Мухаммада у Ибн ʻАраби. Также Руми упоминает о сотворении человека по образу и подобию Божию [101], о наделенности человека Божественными атрибутами в такой степени, что даже рука его может стать «рукой Бога», о способности проникнуть в божественные дела настолько, что он превращает неверие в веру [102]. Также Руми говорит, что подобный человек обязательно присутствует на земле в каждую эпоху; он и явен, и скрыт, он ведом по прямому пути и ведет других [103]; начальным замыслом и главной целью творения было создание этого человека, хотя по времени он был создан последним [104]; он подобен Богу, его слова подобны словам Господа [105]. Все это говорит о том, что Руми был знаком с идеей о совершенном человеке в том виде, в котором она была сформулирована Ибн ʻАраби, однако он никогда не принимал ее во всей полноте. В онтологии Руми бытие даруется лишь Всевышним, человек же не наделен божественностью, и его сущность ни в коем случае не составляет единое целое с сущностью Создателя [106]. Таким образом, признавая возможность человеческого совершенства, Руми не использует выражения «совершенный человек». Позже, начиная с VIII/XIV в., большинство комментаторов «Поэмы о скрытом смысле» использовали этот термин в контексте рассуждений о представлениях Руми касательно совершенства человеческой природы [107]. Современные авторы также ищут точки соприкосновения между взглядами Руми и Ибн ʻАраби, считают их сопоставимыми и с некоторыми оговорками допускают использование выражения «совершенный человек» применительно к идеям Руми [108]. Однако это говорит лишь о том, что они без внимания отнеслись к несопоставимости точек зрения Руми и Ибн ʻАраби касательно концепции единства бытия. Тем не менее, Руми говорит о человеке, достигшем совершенства, называя его, однако, не совершенным человеком, а «мужем, [преданным] Богу» или «несокрушимый друг Божий» (вали-йи ка’им); при этом он всегда внеположен Богу и сохраняет свою индивидуальность [109].
Начиная со второй половины VII/XIII в., когда идеи Ибн ʻАраби через сочинения других авторов распространились по всему мусульманскому миру, представления о совершенном человеке были восприняты большинством суфийских тарикатов, и ко второй половине VIII/XIV в. не осталось ни одного суфийского ордена, в том или ином виде не принявшего учения Ибн ʻАраби о совершенном человеке [110]
В литературе мусульманского мистицизма заметно влияние представлений о пророке Мухаммаде как о совершенном человеке. В лирической поэзии Сана’и, ʻАттара, Джалал ад-Дина Руми, Фахр ад-Дина ʻИраки, Аухад ад-Дина Кирмани и шейха Махмуда Шабистари совершенный человек предстает в образе возлюбленного, в котором явлена божественная красота [111]. Он иносказательно обозначается как кумир, мальчик-христианин, виночерпий, зеркало, Симург, Хумай, Солнце, Луна, каландар, старый виноторговец, музыкант и т.п. [112].
Литература
Абаркухи, Ибрахим. Маджмаʻ ал-бахрайн. Крит. изд.: Наджиб Маил Харави. Тегеран, 1364/1975.
ʻАбд ар-Раззак Кашани. Истилахат ас-суфийа. Крит. изд.: ʻАбдалʻал Шахин. Каир, 4113/1992.
ʻАбд ас-Самад Хамадани. Бахр ал-маʻариф. Кум, 1366/1987.
ʻАйн ал-кузат Хамадани, ʻАбдаллах. Тамхидат. Крит. изд.: ʻАфиф ʻОссейран. Тегеран, 1370/1991.
ʻАла ад-Даула Симнани, Ахмад. Ал-ʻУрва ли-ахл ал-халва ва-л-джалва. Крит. изд.: Наджиб Маил Харави, Тегеран, 1362/1983. Он же. Мусаннафат-и фарси. Крит. изд.: Наджиб Маил Харави, Тегеран, 1369/1990.
ʻАли б. Мухаммад Валид. Аз-Захира фи-л-хакика. Крит. изд.: Мухаммад-Хасан Аʻзами. Бейрут, 1971.
Амули, Хайдар. Джамиʻ ал-асрар. Крит. изд.: Анри Корбен, ʻУсман Исмаʻил Йахйа. Тегеран, 1368/1989.
Амули, Хайдар. Насс ан-нусус. Крит. изд.: Анри Корбен, ʻУсман Исмаʻил Йахйа. Тегеран, 1352/1973.
ʻАфифи, Абу-л-ʻАла. Мукаддима ва таʻликат бар Фусус ал-хикам // Ибн ʻАраби. Фусус ал-хикам. Крит. изд.: Абу-л-ʻАла ʻАфифи. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-ʻарабий.
Он же. Назарийат ал-исламийин фи-л-калима // Маджалла кулийат ал-адаб (ал-Джамиʻа ал-мисрийа). Каир, 1936, т. 2, № 1.
ʻАхд-и ʻатик.
Аштийани, Махди. Таʻлика рашика ʻала шарх Манзумат ас-Сабзавари. Кум, 1404/1984.
Баба Рукна Ширази, Масʻуд. Нусус ал-хусус. Крит. изд.: Р. Мазлуми. Тегеран, 1359/1980.
Бадави, ʻАбд ар-Рахман (изд.). «Асулуджийа» Афлутин ʻинда-л-ʻараб. Кум, 1413/1993.
Бадави, ʻАбд ар-Рахман. Ал-инсан ал-камил фи ислам. Кувейт, 1976.
Бахар, Михрдад. Пажухиш-и дар асатир-и Иран. Тегеран, 1362/1983.
Бертельс Е. Э. Тасаввуф ва адабийат-и тасаввуф. Пер.: С. Изади. Тегеран, 1356/
1978.
Бикаʻи, Ибрахим. Масраʻ ат-тасаввуф. Крит. изд.: А. Вакил. Бейрут, 1400/1980.
Ганими, Абу-л-Вафа. Ибн Сабʻин ва фалсафатихи ас-суфийа. Бейрут, Дар ал-кутуб ал-лубнаний.
Гаухарин, Садик. Шарх-и истилахат-и тасаввуф. Тегеран, 1367/1988.
Гибб, Гамильтон. Ислам. Пер.: Манучихр Амири. Тегеран, 1367/1988.
Джалали Туркамани, Мухаммад-Хасан. Ат-Та’вил ал-мухкам. Лакхнау, 1332/1914.
Джами, ʻАбд ар-Рахман. Накд ан-нусус. Крит. изд.: У. Читтик, 1380/2001.
Джанди, Му’аййад ад-Дин. Нафхат ар-рух ва тухфат ал-футух. Крит. изд.: Наджиб Маил Харави. Тегеран, 1362/1983.
Джилани, ʻАбд ал-Карим. Ал-Инсан ал-камил. Каир, 1304/1887.
Джурджани, ʻАли. Ат-Таʻрифат. Каир, 1357/1938.
Жильсон, Этьен. Рух-и фалсафа-йи курун-и вуста. Пер.: ʻА. Давуди. Тегеран, 1366/1987.
Забур-и манави. Пер. коптских текстов К. Р. К. Олбери. Пер.: Абулкасим Исмаʻилпур. Тегеран, 1375/1996.
Захаби Занджани, ʻАбд ал-Карим. Шамс ал-хакика. Тегеран, 1341/1962.
Ибн ʻАраби, Мухйи ад-Дин. Истилахат ас-суфийа. Хайдарабад, 1367/1948. Он же. Ал-Инсан ал-камил. Крит. изд.: Махмуд Махмуд Гураб. Дамаск, 1410/1990. Он же. Ат-Тадбират ал-илахийа; Инша ад-дава’ир. Крит. изд.: Х.С. Нюберг. Лейден, 1919. Он же. Шаджарат ал-каун. Крит. изд.: Рияд ʻАбдалла. Бейрут, 1404/1984. Он же. ʻУклат ал-мустауфиз; Инша ад-дава’ир. Крит. изд.: Х.С. Нюберг. Лейден, 1919. Он же. ʻАнка’ Магриб. Каир, 1373/1956. Он же. Ал-Футухат ал-маккийа. Крит. изд.: ʻУсман Йахйа. Каир, 1392–1410/1972–1990. Он же. Ал-Футухат ал-маккийа. Булак, 1293/1877. Он же. Фусус ал-хикам. Крит. изд.: Абу-л-ʻАла ʻАфифи. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-ʻарабий.
Ибн Джаузи, ʻАбд ар-Рахман. Ал-Маудуʻат. Крит. изд.: ʻАбд ар-Рахман Мухаммад-ʻУсман. Бейрут, 1403/1973.
Ибн Шахрашуб, Мухаммад. Ал-Манакиб. Кум: ал-Матбаʻат ал-ʻилмийа.
Икбал Лахури, Мухаммад. Сайр-и фалсафа дар Иран. Пер.: А.Х. Арийанпур. Тегеран, 1349/1970.
Икбал, Афзал. Зиндаги ва асар-и Маулана Джалал ад-Дин Руми. Пер.: Х. Афшар. Тегеран, 1375/1996.
Йахйа, ʻУсман Исмаʻил. Хутбат ал-Футухат ал-маккийа. Бейрут: Ал-Машрик, 1970, с. 64.
Кази Саʻид Куми. Шарх Таухид ас-садук. Крит. изд.: Наджафкули Хабиби. Тегеран, 1415/1995.
Корбен, Анри. Тарих-и фалсафа-йи ислами. Пер.: Джавад Табатаба’и. Тегеран, 1373/1994.
Кур’ан карим.
Кушайри, ʻАбд ал-Карим. Ар-Рисала ал-кушайрийа. Крит. изд.: Маʻруф Зурайк, ʻАли ʻАбд ал-Хамид Балтаджи. Бейрут, 1408/1988.
Лахиджи, Мухаммад. Мафатих ал-иʻджаз. Крит. изд.: Мухаммад-Риза Барзгар-Халики, ʻИффат Карбаси. Тегеран, 1371/1992.
Маил Харави, Наджиб. Сайа ба сайа. Тегеран, 1378/1999.
Макдиси, Мутаххар. Ал-бад’ ва-т-тарих. Крит. изд.: Клеман Уар. Париж, 1899.
Массиньон, Луи. Ал-Инсан ал-камил фи-л-ислам ва исалатуху-н-нушурийа // Бадави, ʻАбд ар-Рахман. Ал-инсан ал-камил фи ислам. Кувейт, 1976.
Он же. ʻИрфан-и Халладж. Пер.: Зийа ад-Дин Дихшири. Тегеран, 1366/1987.
Маулави. Маснави-йи маʻнави. Крит. изд.: Николсон. Тегеран, 1363/1984.
Насафи, ʻАзиз ад-Дин. Ал-Инсан ал-Камил. Крит. изд.: Марьян Моле. Тегеран, 1403/1983. Он же. Зубдат ал-хака’ик. Крит. изд.: Хакквирди Насири. Тегеран, 1363/1984.
Нвия, Поль. Тафсир-и кур’ани ва забан-и ʻирфани. Пер.: Исмаʻил Саʻадат. Тегеран, 1373.
Николсон, Р. А. Тасаввуф-и ислам ива рабита-йи инсан ва худа. Пер.: Мухаммад-Риза Шафиʻи Кадкани. Тегеран, 1358/1979.
Он же. Шарх-и Маснави-йи маʻнави. Пер.: Хасан Лахути. Тегеран, 1374/1995.
Ниффари, Мухаммад. Ал-Мавакиф ва-л-мухатабат. Крит. изд.: Арбери. Каир, 1985.
Носс, Джон. Тарих-и джамиʻ-и адйан. Пер.: ʻАли-Асгар Хикмат. Тегеран, 1370/1991.
Парса, Мухаммад. Шарх Фусус ал-хикам. Крит. изд.: Дж. Мисгарнижад. Тегеран, 1366/1987.
Рагиб Исфахани, Хусайн. Тафсил ан-наш’атайн ва тахсил ас-саʻадатайн. Крит. изд.: Джавад Шуббар. Сайда: Матбаʻат ал-ʻирфан.
Раса’ил ихван ас-сафа. Бейрут: Дар Садер.
Са’ин ад-Дин Турка, ʻАли. Тамхид ал-каваʻид. Крит. изд.: Джалал ад-Дин Аштийани. Тегеран, 1360/1981.
Сабзавари, Мулла Хади. Маджмуʻа-йи раса’ил. Крит. изд.: Джалал ад-Дин Аштийани. Тегеран, 1360/1981.
Садр ад-Дин Кунави, Мухаммад. Иʻджаз ал-байан. Хайдарабад, 1368/1949. Он же. Ал-Фукук. Крит. изд.: Мухаммад Хаджави. Тегеран, 1371/1992. Он же. Маратиб ал-вуджуд // Бадави, ʻАбд ар-Рахман. Ал-инсан ал-камил фи ислам. Кувейт, 1976.
Садр ад-Дин Ширази, Мухаммад. Тафсир ал-Кур’ан ал-карим. Крит. изд.: Мухаммад Хаджави. Тегеран, 1371/1992.
Сулами, Мухаммад. Маджмуʻа-йи асар. Крит. изд.: Насраллах Пурджавади. Тегеран, 1369/1990.
Табаси, Мухаммад. Асар. Крит. изд.: Ирадж Афшар, Мухаммад-Таки Данишпажух. Тегеран, 1351/1972.
Тирмизи, Мухаммад. Сунан. Крит. изд.: М. Ваджих и др. Калькутта, 1862.
Файз Кашани, Мухаммад-Мухсин. Калимат макнуна. Крит. изд.: ʻАзизаллах ʻУтариди. Тегеран, 1342/1963.
Фанари, Мухаммад. Мисбах ал-унс. Тегеран, 1363/1984.
Фаргани, Саʻид. Ал-Мукаддимат // Хаким Тирмизи, Мухаммад. Хатм ал-аулийа. Крит. изд.: ʻУсман Исмаʻил Йахйа. Бейрут, 1965.
Хаким Тирмизи, Мухаммад. Хатм ал-аулийа. Крит. изд.: ʻУсман Исмаʻил Йахйа. Бейрут, 1965.
Халладж, Хусайн. Ат-Тавасин. Крит. изд.: Луи Массиньон. Париж, 1913.
Хатми Лахури, ʻАбд ар-Рахман. Шарх-и ʻирфани-йи газалха-йи Хафиз. Крит. изд.: Баха ад-Дин Хуррамшахи и др. Тегеран, 1374/1995.
Хваризми, Хусайн. Шарх Фусус ал-хикам. Крит. изд.: Наджиб Маил Харави. Тегеран, 1364/1985.
Шабистари, Махмуд. Гулшан-и раз. Маджмуʻа-йи асар. Крит. изд.: Самад Муваххид. Тегеран, 1365/1986.
Шайхалислами, ʻАли. Тасвир-и инсан-и камил дар Фусус ва Маснави // Маджалла-йи Данишкада-йи адабийат ва ʻулум-и инсани. Тегеран, 1354/1975, год 22, № 91–92.
Шаʻрани, ʻАбд ал-Ваххаб. Ал-Йавакит ва-л-джавахир. Каир, 1351/1933.
Шах Ниʻматаллах Вали. Рисалаха. Крит. изд.: Джавад Нурбахш. Тегеран, 1355–57/1976–78.
Шахрастани, Мухаммад. Ал-Милал ва-н-нихал. Крит. изд.: Мухаммад Сайид Гилани. Бейрут, 1402/1982.
Шедер Г. Г. Назарийат ал-инсан ал-камил ʻинда-л-муслимин // Бадави, ʻАбд ар-Рахман. Ал-инсан ал-камил фи ислам. Кувейт, 1976.
Шиммель, Аннемари. Дарамад-и бар ислам. Пер.: ʻАбдаррахим Гавахи. Тегеран, 1375/1996.
Ширвани, Зайн ал-ʻАбидин. Бустан ас-сийаха. Тегеран: Китабхана-йи Сана’и.
Affifi, A. E., The Mystical Philosophy of Muhyiddin-Ibnul Arabi, Lahore, 1964.
Baldick, J., Mystical Islam, London, 1989.
Bayat, M., Mysticism and Dissent, New York, 1982.
Birge, J. K. The Bektashi Order of Dervishes, London, 1965.
Burckhardt, T., An Introduction to Sufi Doctrine, Lahore, 1983.
Corbin, H., Creative Imagination in the Ṣūfism of Ibn ʿArabī, tr. R. Manheim, Princeton, 1969.
EI1.
EI2.
Landau, R., The Philosophy of Ibn ʿArabī, London, 1959.
Momen, M., An Introduction to Shiʿi Islam, London, 1985.
Nasr, H. et al., Shiʿism, New York, 1988.
Nicholson, R. A., Studies in Islamic Mysticism, Lahore, 1983.
Наджиб Маил Харави